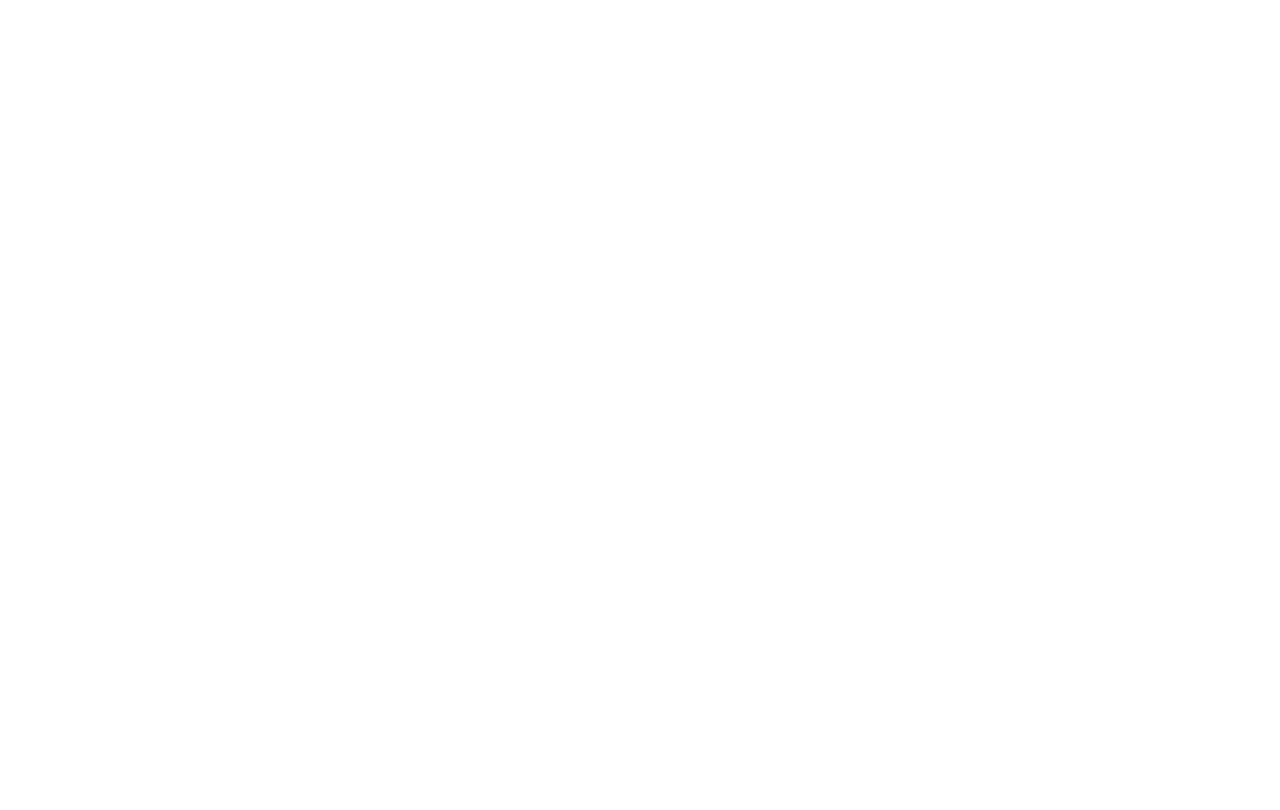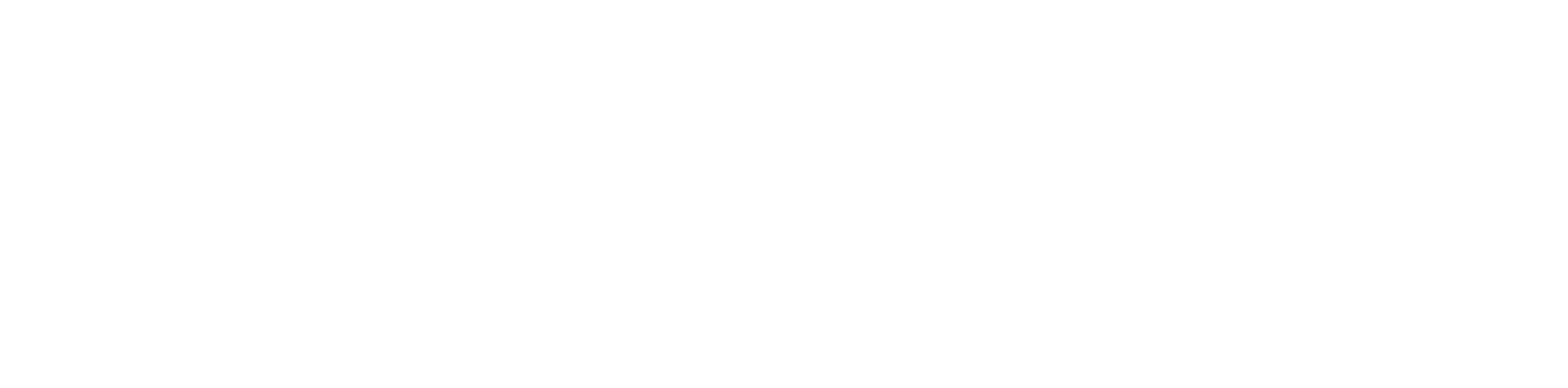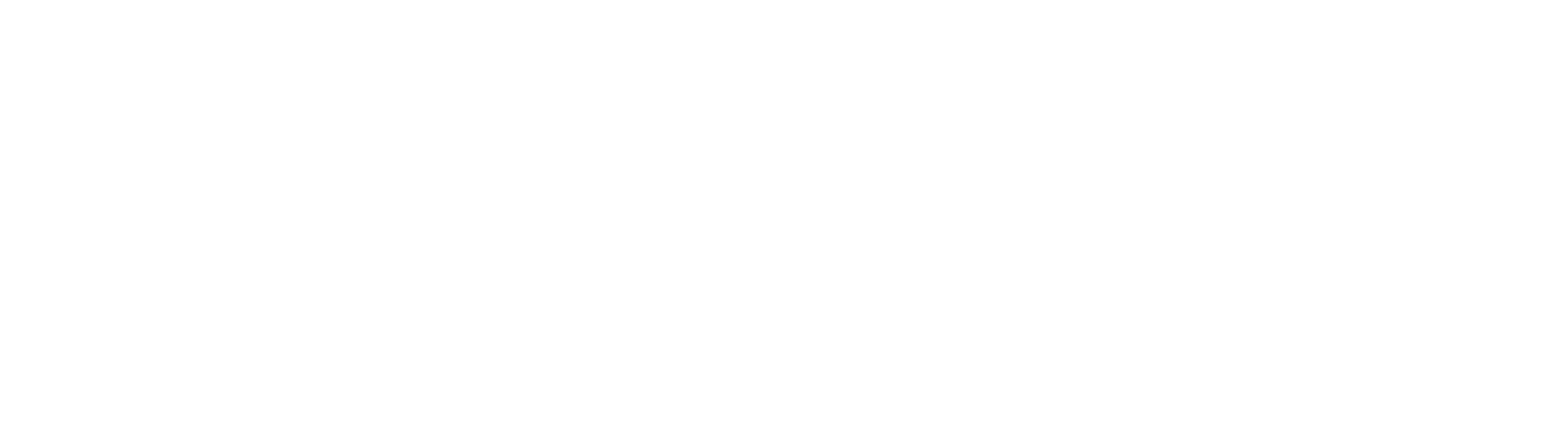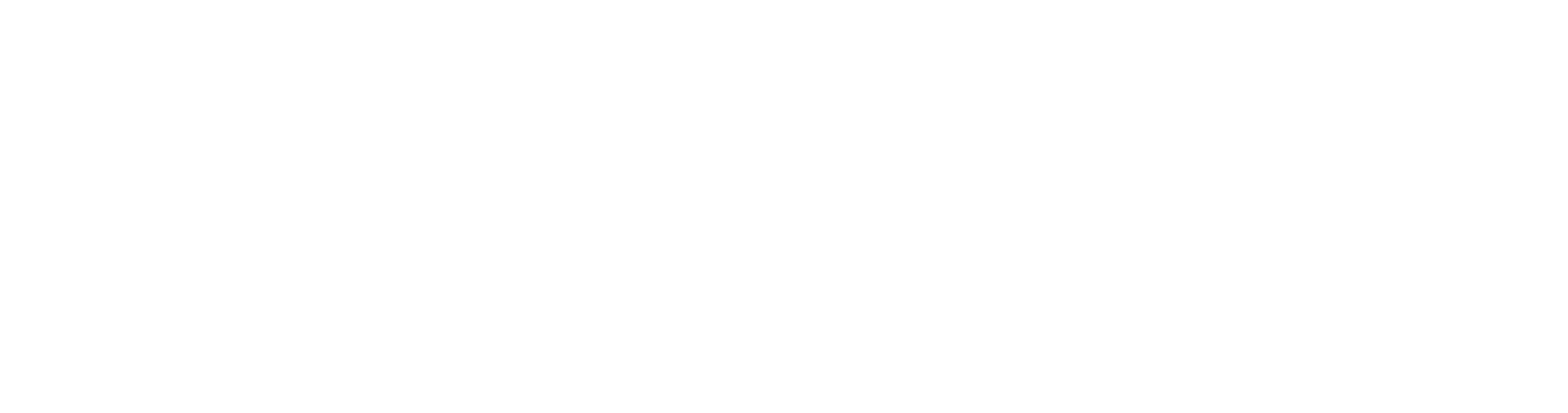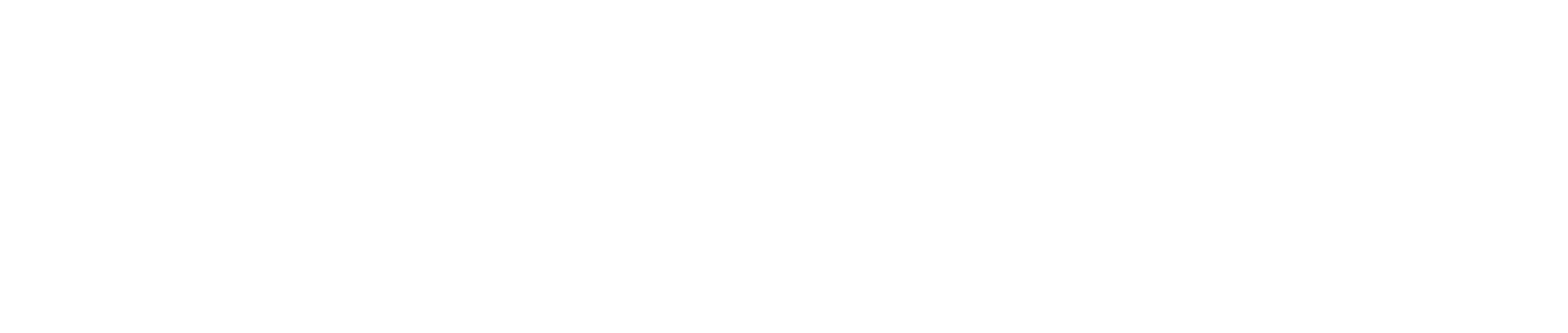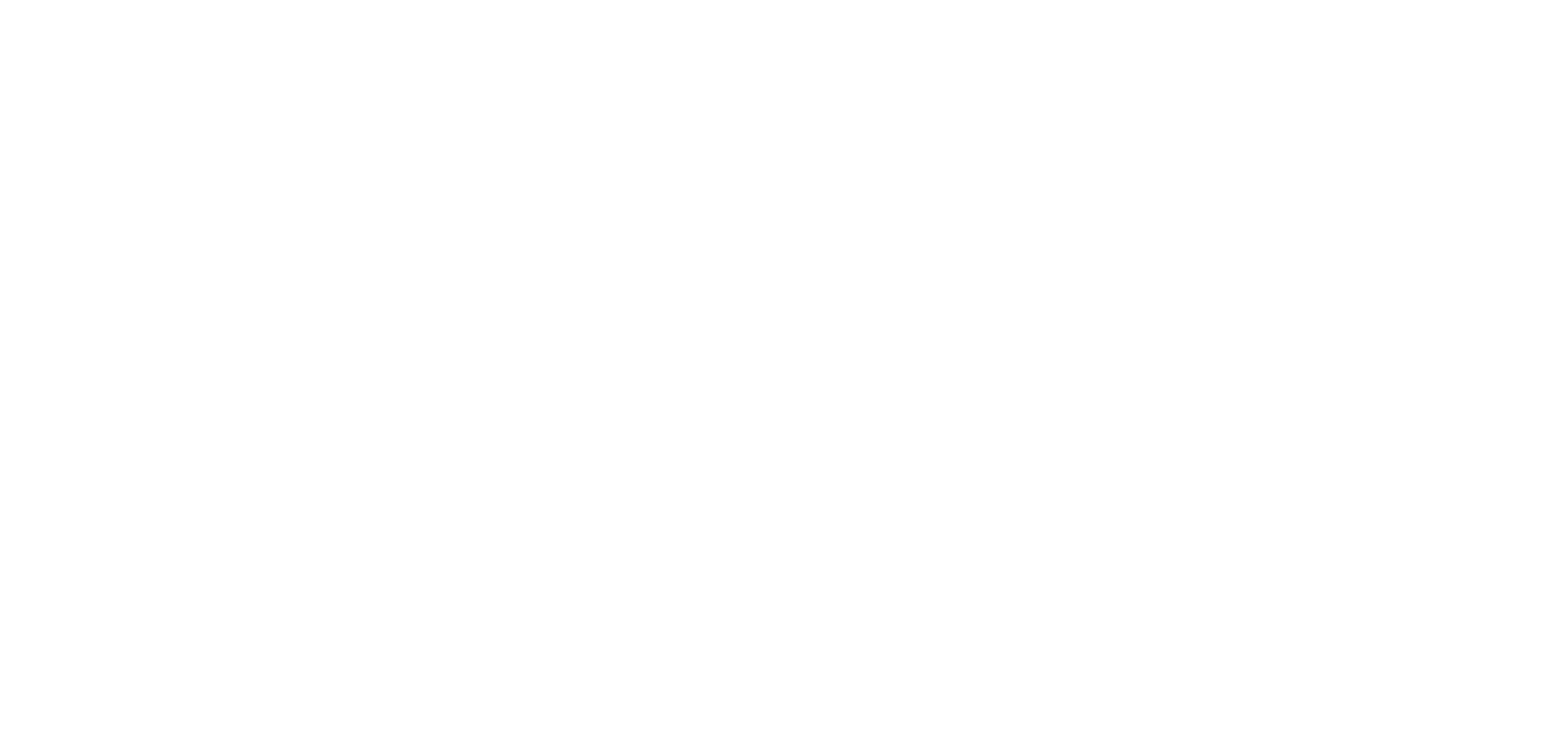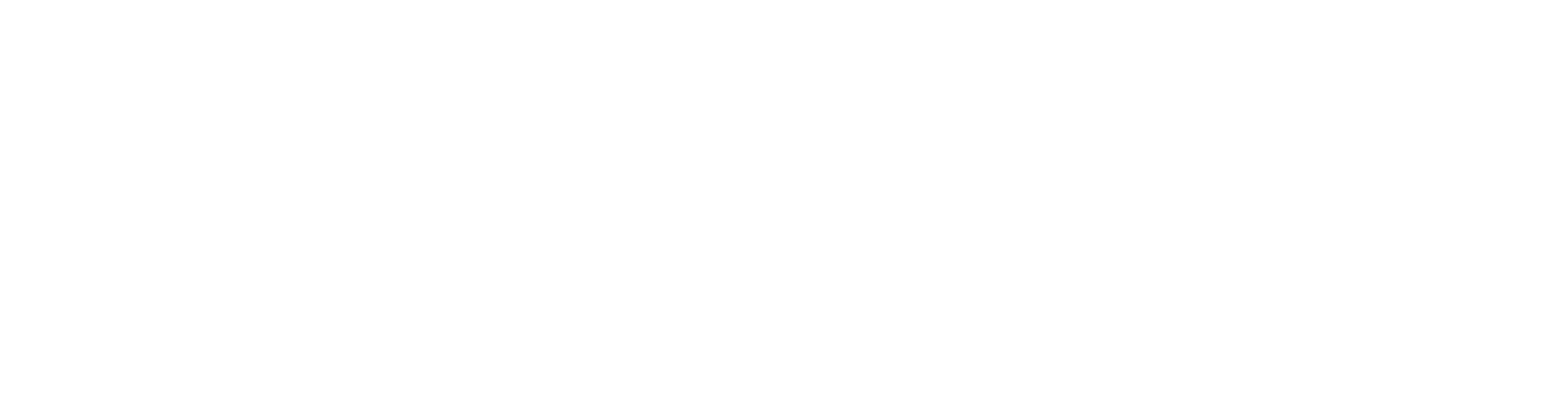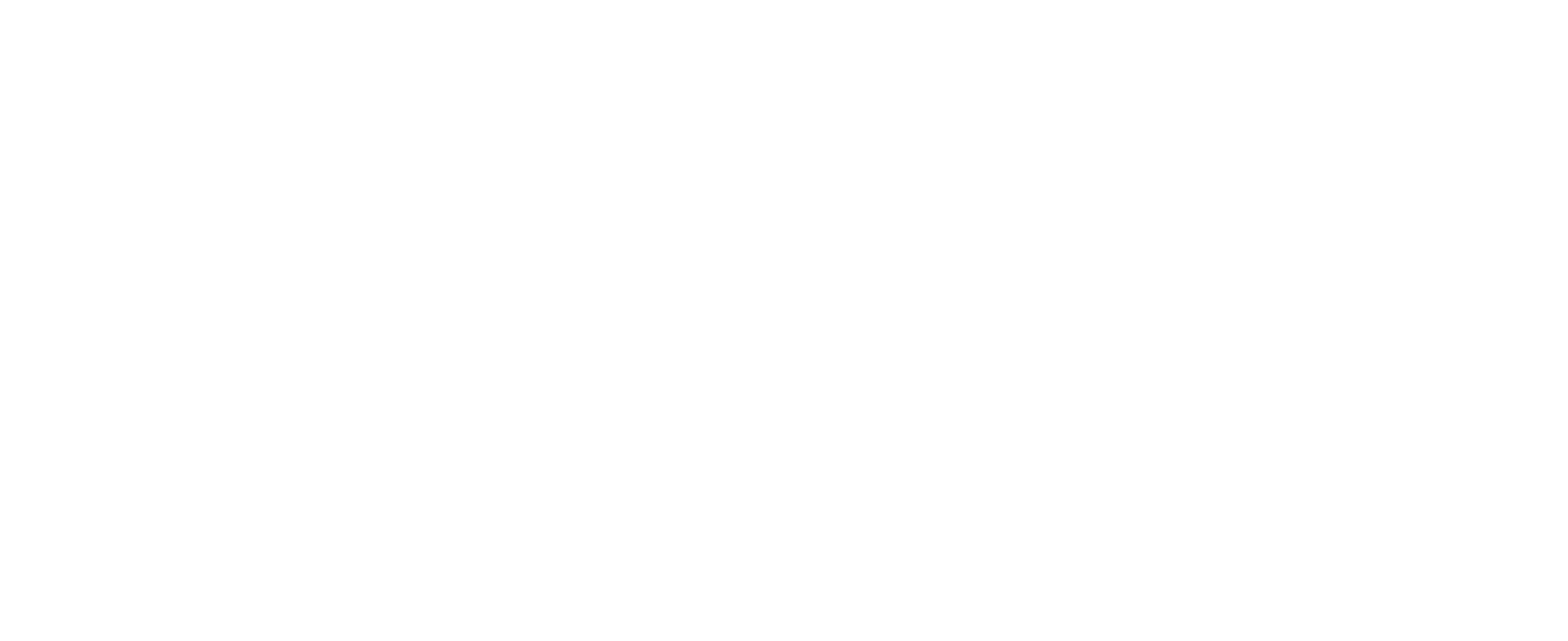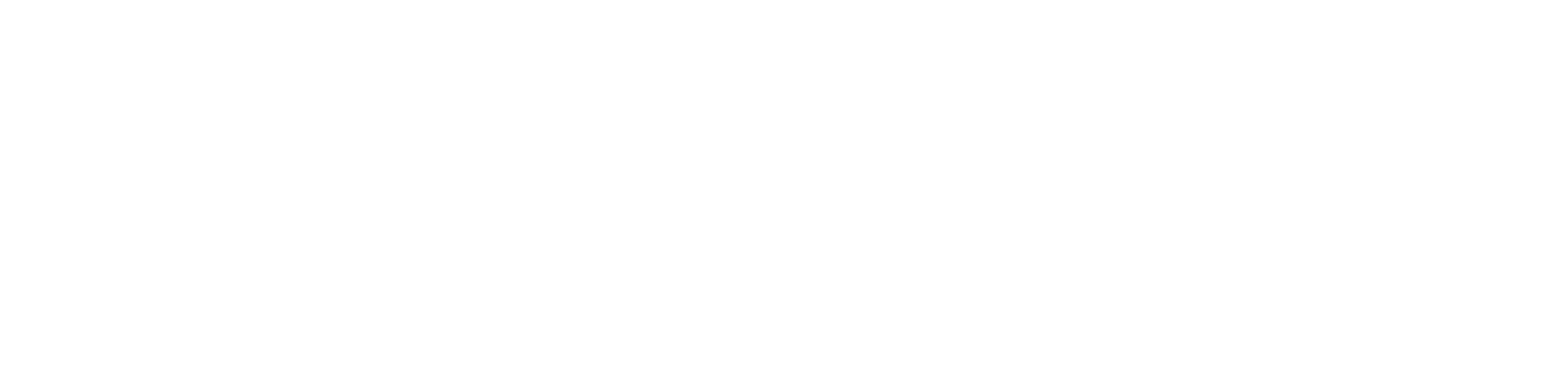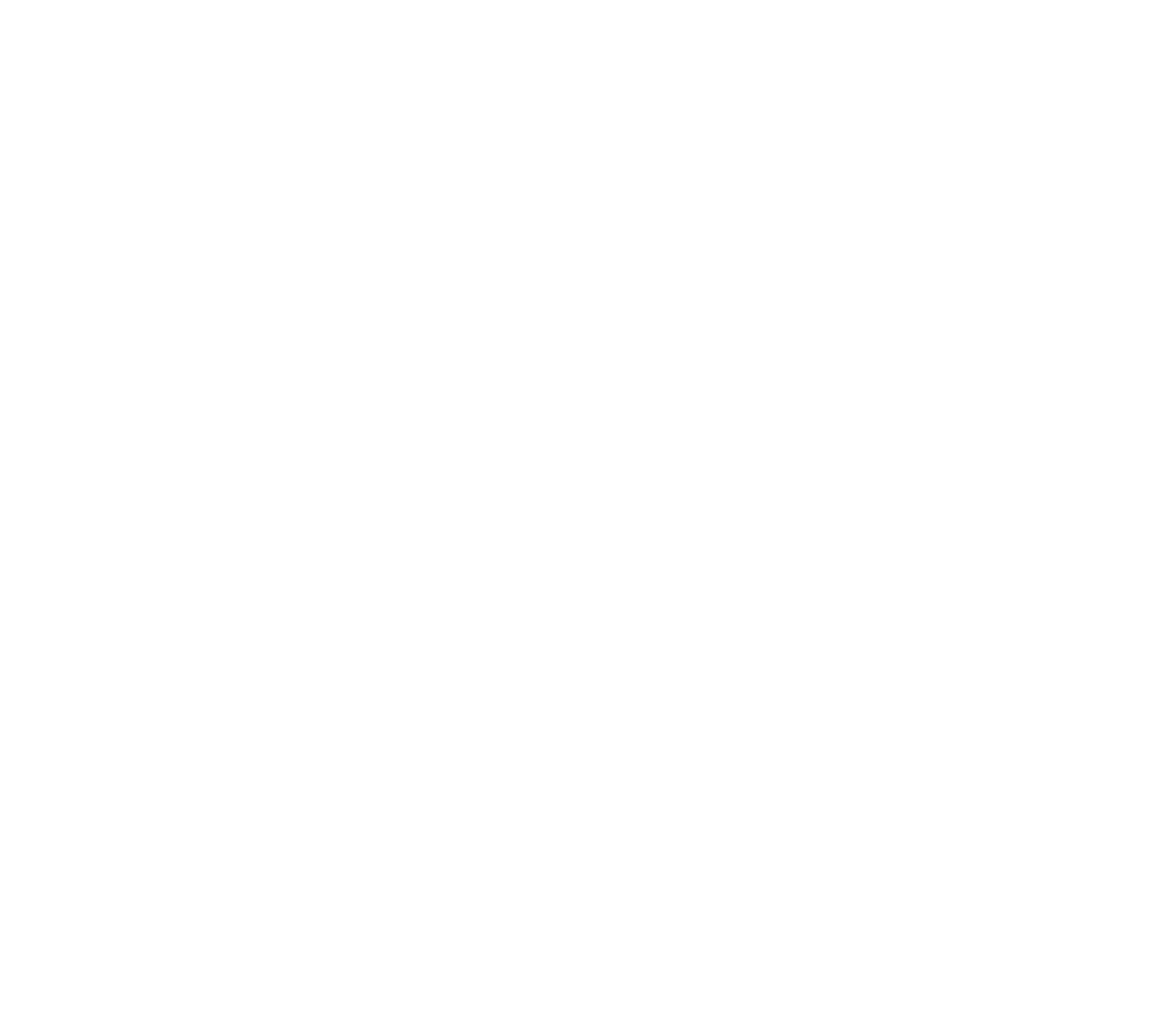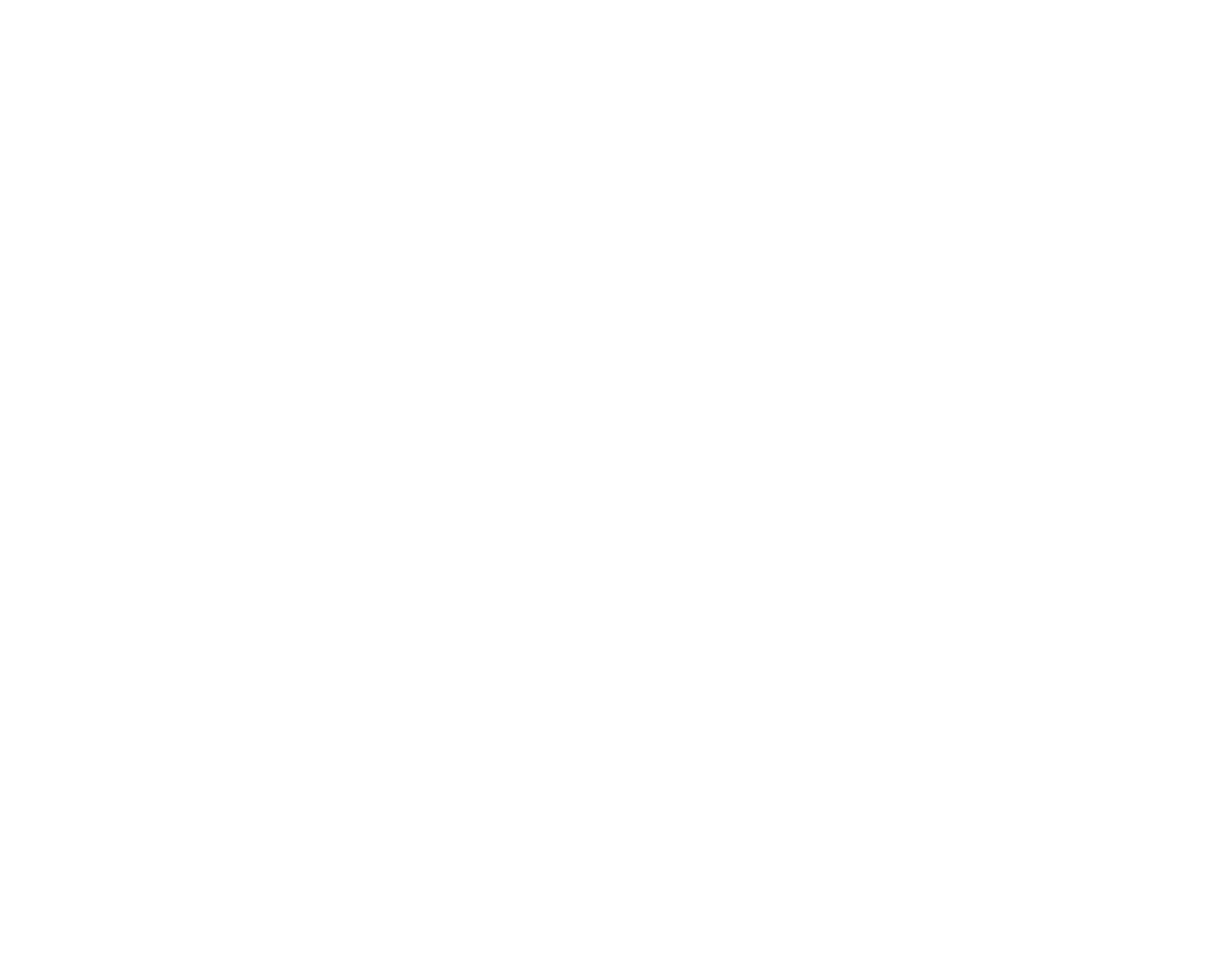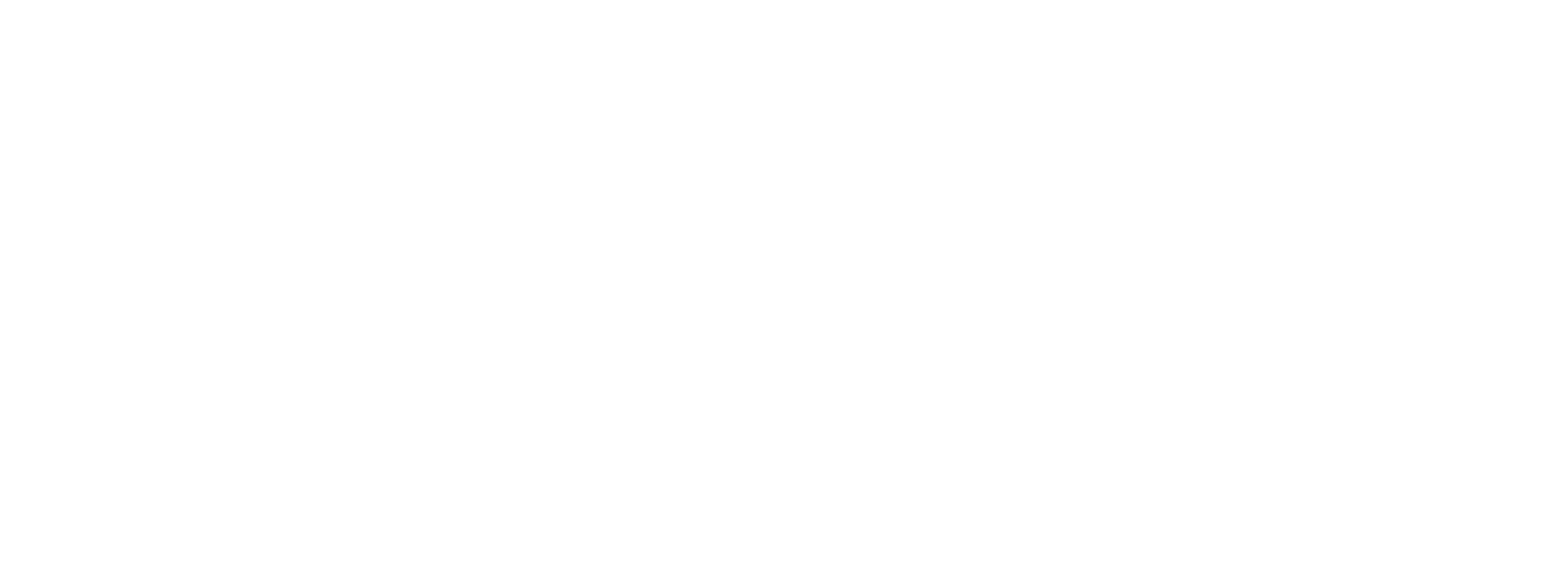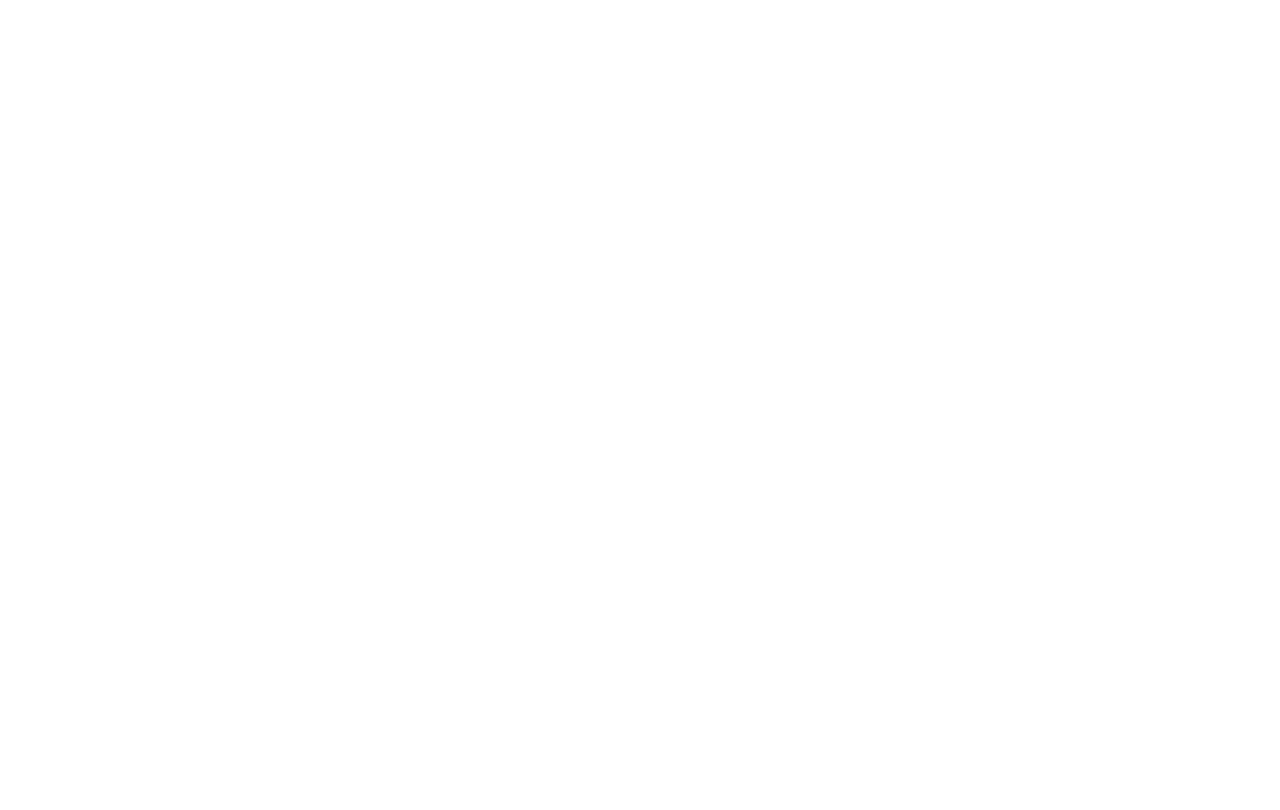Артëм Ушканов
Поэт, лидер музыкальной группы «Моргание сквозь». Родился в 1999 г. в Москве. Окончил Литературный институт им. Горького. Публиковался в журналах «Флаги», «Таволга», «rosamundi», на портале «полутона». Победитель конкурса журнала Prosodia «Пристальное прочтение поэзии» в номинации «Лучшее эссе о творчестве поэта» (2020). Шорт-лист премии «Лицей» (2023). Живёт в Москве.
«Теология и поэзия»
По сравнению с такими могучими стыками, как «теология и тело/сексуальность» или «теология и ф-письмо», формула напряжённости моей подборки может показаться чем-то предельно тривиальным. Я обозначил её просто как «теология и поэзия». Но не в том смысле, что эти тексты обращаются к образам, темам или проблемам, находящимся в ведомстве теологии. Я собрал в этой подборке стихи, которые рискуют нарваться на обвинение в чрезмерной — якобы непозволительной для поэзии — интеллектуальности. Пресловутое «должна быть чуточку глуповата» висит дамокловым мечом над всяким, кто хотя бы вскользь касается т.н. «философских» вопросов — что говорить о стихах, которые напрямую принимают черты теории?
Впрочем, любители аппелировать к чуточку-глуповатости забывают, что тот же Пушкин числил способность мыслить в ряду поэтических добродетелей, когда высоко оценивал Боратынского, да и — в конце концов — где те весы, на которых можно взвесить эту «чуточку» и определить её точную меру?
В любом случае я верю, что — перефразируя Мигеля Де Унамуно — поэзия и философия — сёстры-близнецы, если не одно и то же. Тем не менее у этих сестёр формальные приметы не одинаковы — и принципом, по которому я собрал приведённые в подборке тексты, является осуществление формального синтеза теологии и поэзии через введение теологических (или философских — в контексте настоящего комментария для меня это полные синонимы) примет в поэтическую речь (что не отменяет и сущностного синтеза — об этом подробнее ниже).
В связи с этим для меня важен опыт двух поэтов: Михаила Ерёмина и Аркадия Драгомощенко.
Как замечает Сергей Романцов (https://t.me/marginalium): «Ерёмин был долгожителем и его поэтика оказалась самой долгоживущей. Из неё и выросла та линия, которую сегодня называют драгомощенковской. А называть её нужно ерëминской, поскольку точка роста находится в поэтике Ерёмина», именно у него впервые реализованы «столкновение различных речевых пластов, герметичность, научная терминология и метафорика».
Хотя — на мой взгляд — поэтический проект Михаила Ерёмина скорее создаёт прецедент, нежели предлагает конкретные стратегии письма, Ерёмин для меня стал тем автором, который легитимизировал поэтическую работу как коллекционирование и коллажирование терминов, идей, образов из философского и естественнонаучного дискурсов.
Парадоксально, но поэтика Аркадия Драгомощенко — превзойдя Ерёмина в радикальности формального сближения философии и поэзии — оказалась более гибкой и податливой для усвоения последующими поколениями поэтов.
Наблюдения о поэтической методологии Драгомощенко удачно суммирует Александр Скидан в сборнике эссе «Сыр букв мел». Он указывает, что АТД создаёт форму стихотворения-с-комментарием, в которой поэтический текст и комментарий к нему срастаются в единое целое, подчёркивает, что АТД «мыслил, а не писал стихи» и приходит к лаконичной формуле драгомощенковского синтеза как «теоретизации поэтического и поэтизации теории».
Опыт Драгомощенко для меня важен именно во втором аспекте: поэтизация теории, но в узком, сугубо формальном смысле — как создание новой стихотворной формы, нового поэтического языка, отмеченного «соединением поэтического и прозаического, лирического и “научного” регистров, резкими стилистическими и лексическими столкновениями и сдвигами».
Теоретизация поэтического, осуществлённая Драгомощенко, была — в свою очередь — мышлением о сути поэзии и её задачах («любой вопрос о поэзии включает её вопрошание о самой себе»), общий итог которого можно суммировать через определение поэзии как (само)стирания.
И вот здесь намечается моё принципиальное расхождение с Драгомощенко, постмодернистской теорией и тем богословием, которое строится на её основе.
Дело в том, что поэзия АТД является «в высшей степени современным воплощением эстетики возвышенного». На это указывает Скидан, имея в виду кантовское возвышенное, переосмысленное Жаном Франсуа Лиотаром, которое осуществляет «деструкцию эстетики прекрасного» и… порождает патологический страх постмодернизма (и верных этой линии поэтов и теологов) перед красотой.
Обстоятельная критика постмодерна (одним из определений которого оказываются «нарративы возвышенного») проводится православным богословом Дэвидом Бентли Хартом в книге «Красота бесконечного» — в ней же он обосновывает первичность эстетического принципа в теологии.
Стремясь к стиранию самой себя, «поэзия доводится до отсутствия поэзии» (выражение Жоржа Батая, с которым — по замечанию Скидана — АТД находится «в тайном сговоре») — таким образом она «отказывается от прекрасного» и от красоты, реализуя те задачи, которые ставит перед ней постмодернистская теория. Но не указывает ли само это сопротивление поэзии поэзией — в рамках выполнения верховного приказа по деструкции эстетики прекрасного — на то, что поэзия по своей природе призвана заниматься именно прекрасным, что её сокровенная сущность — красота и свидетельство красоты?
Притом эта красота особенная — она не «спазм иллюзорного покоя» среди вездесущего насилия мира, не просто внешне приятное или потрафляющее вкусам образованной публики. Эта красота — согласно Харту — есть указание на «преемственность между славой божественной и славой сотворённой», она «движется, забывая о границах, отделяющих идеальное от реального, трансцендентное от имманентного, сверхъестественное от естественного <...>. “Столь забывчивое пересечение этих границ, — замечает Ганс Урс фон Бальтазар, — принадлежит сущности прекрасного и эстетики почти как необходимость».
Эта красота настолько первична, что присутствует даже в напряжённом сопротивлении человека ей самой — и Драгомощенко, вопреки тому, как он сам и его постмодернистские последователи понимали его тексты, создал много подлинно прекрасных стихов.
Итак, поэзия есть красота и свидетельство красоты Творения, теология же — по замечанию философа и богослова Александра Филоненко — в пространстве современной мысли в первую очередь призвана быть «“защитницей” красоты».
Тогда формальная поэтизация теории — создание новой формы на стыке двух жанров литературы — позволяет поэзии лучше понимать свою собственную природу и не только раскрываться как свидетельство красоты, но и защищать себя.
Сущностная же поэтизация теории будет заключаться в наглядном раскрытии и показывании эстетики мышления.
Но красота — это свободный дар бесконечно свободного Бога, она даруется из бесконечной любви, «просто так» и не может быть заслужена никаким образом. Осознание этой просто-так-дарованности вызывает глубокое и радостное чувство благодарности. Такая благодарность становится ещё одной точкой, где теология и поэзия соприкасаются.
Известна фраза Хайдеггера «Научитесь благодарить — и вы сможете думать», но мне важен этот мотив в контексте его эссе «Путь к языку».
Хайдеггер пишет: «мысль как благодарность», и его переводчик, философ Владимир Бибихин, делает сноску: «В немецком Denken, думать и Danken, благодарить — разные исторические формы одного слова», раскрывая хайдеггеровскую языковую интуицию, недоступную для русского читателя. Но затем для сравнения он приводит интуицию русского языка, которая уже — в свою очередь — была сокрыта для Хайдеггера: «признать (узнать) и признательность».
Получается, если теория благодарит мышлением, то поэзия выражает свою признательность Богу через признание-узнавание красоты Его Творения. Но это признание-узнавание возможно лишь при условии внимательности, медитативной установки, созерцательной настроенности на мироздание.
В этом отношении для меня важна цитата из эссе, прочитанного ещё в школьные годы, когда ни о каком Хайдеггере не было и речи: «Наблюдательность — добродетель лирического поэта», — сказал Мандельштам. Осмелюсь добавить, что наблюдательность — род признательности. Поэзия всегда в конце концов — бесхитростная благодарность миру за то, что он создан» (Сергей Гандлевский, «Польза поэзии»).
Эта внимающая признательность — первая и (осмелюсь утверждать) единственная реальная задача поэзии. Её созерцательность всегда обращена к Творению с тем, чтобы признать его красоту, — в этом же состоит её решающее родство с теологией как защитницей красоты.
Формальная поэтизации теории позволяет поэзии лучше осознать свою собственную природу, а сущностная — дорасти до теории в том смысле, который не сбылся этимологически, но всегда подспудно мерцал как минимум в звучании слова — тео-рии как богоузрения.
Впрочем, любители аппелировать к чуточку-глуповатости забывают, что тот же Пушкин числил способность мыслить в ряду поэтических добродетелей, когда высоко оценивал Боратынского, да и — в конце концов — где те весы, на которых можно взвесить эту «чуточку» и определить её точную меру?
В любом случае я верю, что — перефразируя Мигеля Де Унамуно — поэзия и философия — сёстры-близнецы, если не одно и то же. Тем не менее у этих сестёр формальные приметы не одинаковы — и принципом, по которому я собрал приведённые в подборке тексты, является осуществление формального синтеза теологии и поэзии через введение теологических (или философских — в контексте настоящего комментария для меня это полные синонимы) примет в поэтическую речь (что не отменяет и сущностного синтеза — об этом подробнее ниже).
В связи с этим для меня важен опыт двух поэтов: Михаила Ерёмина и Аркадия Драгомощенко.
Как замечает Сергей Романцов (https://t.me/marginalium): «Ерёмин был долгожителем и его поэтика оказалась самой долгоживущей. Из неё и выросла та линия, которую сегодня называют драгомощенковской. А называть её нужно ерëминской, поскольку точка роста находится в поэтике Ерёмина», именно у него впервые реализованы «столкновение различных речевых пластов, герметичность, научная терминология и метафорика».
Хотя — на мой взгляд — поэтический проект Михаила Ерёмина скорее создаёт прецедент, нежели предлагает конкретные стратегии письма, Ерёмин для меня стал тем автором, который легитимизировал поэтическую работу как коллекционирование и коллажирование терминов, идей, образов из философского и естественнонаучного дискурсов.
Парадоксально, но поэтика Аркадия Драгомощенко — превзойдя Ерёмина в радикальности формального сближения философии и поэзии — оказалась более гибкой и податливой для усвоения последующими поколениями поэтов.
Наблюдения о поэтической методологии Драгомощенко удачно суммирует Александр Скидан в сборнике эссе «Сыр букв мел». Он указывает, что АТД создаёт форму стихотворения-с-комментарием, в которой поэтический текст и комментарий к нему срастаются в единое целое, подчёркивает, что АТД «мыслил, а не писал стихи» и приходит к лаконичной формуле драгомощенковского синтеза как «теоретизации поэтического и поэтизации теории».
Опыт Драгомощенко для меня важен именно во втором аспекте: поэтизация теории, но в узком, сугубо формальном смысле — как создание новой стихотворной формы, нового поэтического языка, отмеченного «соединением поэтического и прозаического, лирического и “научного” регистров, резкими стилистическими и лексическими столкновениями и сдвигами».
Теоретизация поэтического, осуществлённая Драгомощенко, была — в свою очередь — мышлением о сути поэзии и её задачах («любой вопрос о поэзии включает её вопрошание о самой себе»), общий итог которого можно суммировать через определение поэзии как (само)стирания.
И вот здесь намечается моё принципиальное расхождение с Драгомощенко, постмодернистской теорией и тем богословием, которое строится на её основе.
Дело в том, что поэзия АТД является «в высшей степени современным воплощением эстетики возвышенного». На это указывает Скидан, имея в виду кантовское возвышенное, переосмысленное Жаном Франсуа Лиотаром, которое осуществляет «деструкцию эстетики прекрасного» и… порождает патологический страх постмодернизма (и верных этой линии поэтов и теологов) перед красотой.
Обстоятельная критика постмодерна (одним из определений которого оказываются «нарративы возвышенного») проводится православным богословом Дэвидом Бентли Хартом в книге «Красота бесконечного» — в ней же он обосновывает первичность эстетического принципа в теологии.
Стремясь к стиранию самой себя, «поэзия доводится до отсутствия поэзии» (выражение Жоржа Батая, с которым — по замечанию Скидана — АТД находится «в тайном сговоре») — таким образом она «отказывается от прекрасного» и от красоты, реализуя те задачи, которые ставит перед ней постмодернистская теория. Но не указывает ли само это сопротивление поэзии поэзией — в рамках выполнения верховного приказа по деструкции эстетики прекрасного — на то, что поэзия по своей природе призвана заниматься именно прекрасным, что её сокровенная сущность — красота и свидетельство красоты?
Притом эта красота особенная — она не «спазм иллюзорного покоя» среди вездесущего насилия мира, не просто внешне приятное или потрафляющее вкусам образованной публики. Эта красота — согласно Харту — есть указание на «преемственность между славой божественной и славой сотворённой», она «движется, забывая о границах, отделяющих идеальное от реального, трансцендентное от имманентного, сверхъестественное от естественного <...>. “Столь забывчивое пересечение этих границ, — замечает Ганс Урс фон Бальтазар, — принадлежит сущности прекрасного и эстетики почти как необходимость».
Эта красота настолько первична, что присутствует даже в напряжённом сопротивлении человека ей самой — и Драгомощенко, вопреки тому, как он сам и его постмодернистские последователи понимали его тексты, создал много подлинно прекрасных стихов.
Итак, поэзия есть красота и свидетельство красоты Творения, теология же — по замечанию философа и богослова Александра Филоненко — в пространстве современной мысли в первую очередь призвана быть «“защитницей” красоты».
Тогда формальная поэтизация теории — создание новой формы на стыке двух жанров литературы — позволяет поэзии лучше понимать свою собственную природу и не только раскрываться как свидетельство красоты, но и защищать себя.
Сущностная же поэтизация теории будет заключаться в наглядном раскрытии и показывании эстетики мышления.
Но красота — это свободный дар бесконечно свободного Бога, она даруется из бесконечной любви, «просто так» и не может быть заслужена никаким образом. Осознание этой просто-так-дарованности вызывает глубокое и радостное чувство благодарности. Такая благодарность становится ещё одной точкой, где теология и поэзия соприкасаются.
Известна фраза Хайдеггера «Научитесь благодарить — и вы сможете думать», но мне важен этот мотив в контексте его эссе «Путь к языку».
Хайдеггер пишет: «мысль как благодарность», и его переводчик, философ Владимир Бибихин, делает сноску: «В немецком Denken, думать и Danken, благодарить — разные исторические формы одного слова», раскрывая хайдеггеровскую языковую интуицию, недоступную для русского читателя. Но затем для сравнения он приводит интуицию русского языка, которая уже — в свою очередь — была сокрыта для Хайдеггера: «признать (узнать) и признательность».
Получается, если теория благодарит мышлением, то поэзия выражает свою признательность Богу через признание-узнавание красоты Его Творения. Но это признание-узнавание возможно лишь при условии внимательности, медитативной установки, созерцательной настроенности на мироздание.
В этом отношении для меня важна цитата из эссе, прочитанного ещё в школьные годы, когда ни о каком Хайдеггере не было и речи: «Наблюдательность — добродетель лирического поэта», — сказал Мандельштам. Осмелюсь добавить, что наблюдательность — род признательности. Поэзия всегда в конце концов — бесхитростная благодарность миру за то, что он создан» (Сергей Гандлевский, «Польза поэзии»).
Эта внимающая признательность — первая и (осмелюсь утверждать) единственная реальная задача поэзии. Её созерцательность всегда обращена к Творению с тем, чтобы признать его красоту, — в этом же состоит её решающее родство с теологией как защитницей красоты.
Формальная поэтизации теории позволяет поэзии лучше осознать свою собственную природу, а сущностная — дорасти до теории в том смысле, который не сбылся этимологически, но всегда подспудно мерцал как минимум в звучании слова — тео-рии как богоузрения.