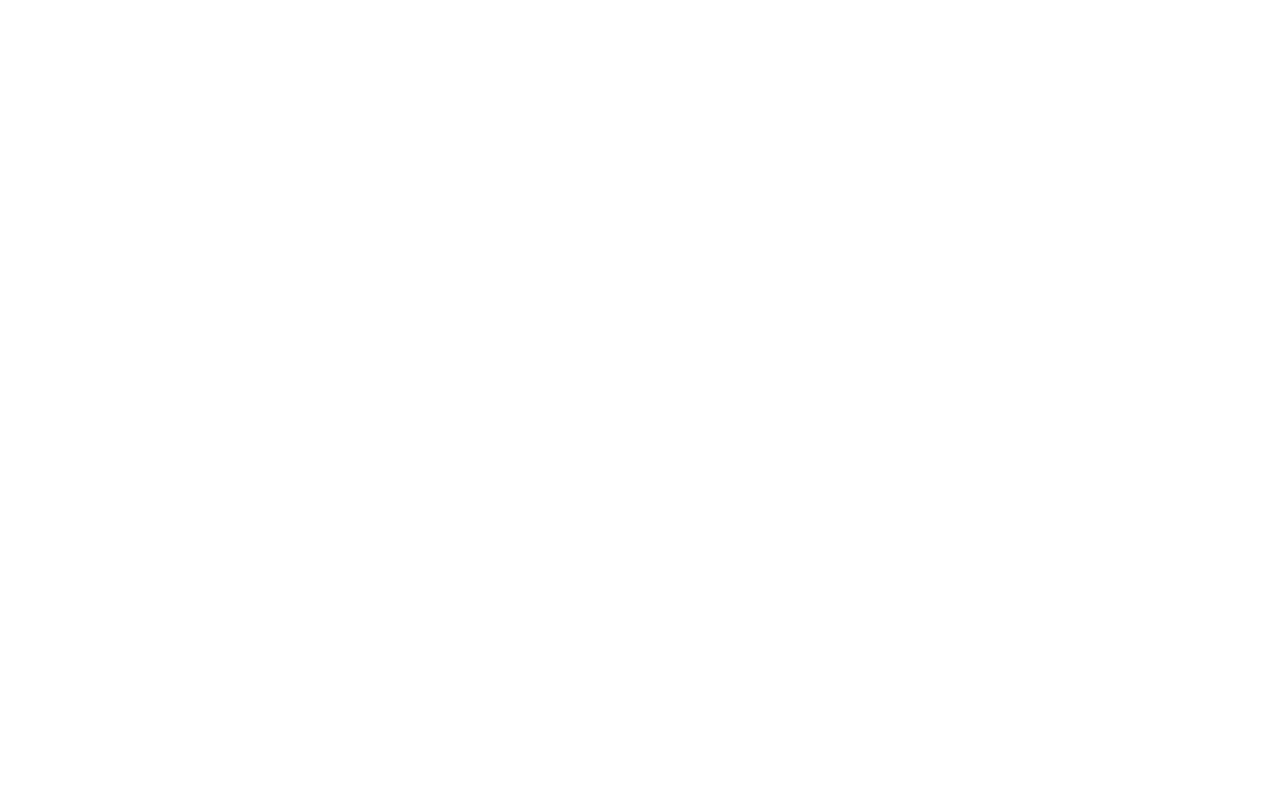Сергей Трафедлюк
Родился в 1986 году, живёт в Севастополе. Публиковался в журнале «Знамя», на сайтах «Полутона», TextOnly, «Литцентр».
«Коралловый Иисус и ему подобные»
В мире меня завораживает расположение объектов друг относительно друга.
Я люблю осмыслять и обживать эту мутирующую композицию, знакомиться с её обитателями, угадывать того, кто за всем этим стоит.
Вот несколько впечатлений от этих встреч, несколько дорогих мне догадок.
Я люблю осмыслять и обживать эту мутирующую композицию, знакомиться с её обитателями, угадывать того, кто за всем этим стоит.
Вот несколько впечатлений от этих встреч, несколько дорогих мне догадок.
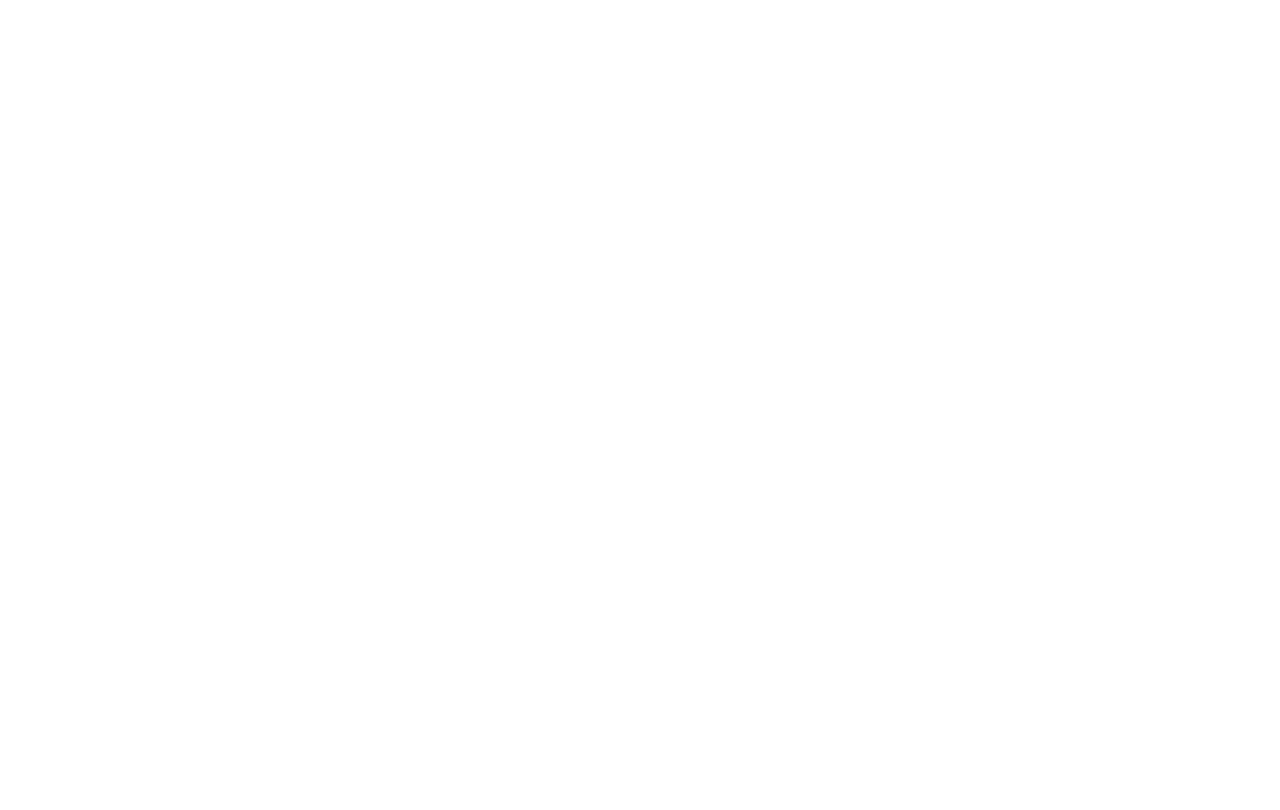
1.
Как хорошо стоять в укромной выемке аллеи, в тени, когда солнцепёк, в сухости, когда дождит, и оберегать стенд с буклетами на множестве языков.
«Наша вавилонская стеночка», — называет её Валентина.
Мимо тревожные люди выгуливают детей, мимо дикие собаки выгуливают людей, а они со Стасом стоят себе тихо-тихо, неподвижно, и разговаривают вполголоса о своём.
Стас вызывающе молод, для своего аппетита к рассуждениям о Сущности Вещей слишком мало ест, и только воспитанная вежливость останавливает Валентину от того, чтобы предложить ему как-нибудь зайти в кафе — покушать, она с радостью угостит.
«Мы распространяем знания о Создателе Всего по всей Земле, до куда хватит наших ног, и пока мой язык не отсох, я не имею права молчать и прохлаждаться, не имею права, например, зайти в кафе и выпить капучино просто так. Я всегда на страже Создателя», — думает Стас вслух.
«А может, мы просто охраняем эти симпатичные буклетики от ветра? Ну, кто ещё захочет их полистать?» — думает Валентина про себя.
Иногда ей кажется, что из общего у них со Стасом только толстенькие лодыжки — ну прямо ножки белых грибов.
Август щедр на дни, переполненные плотной жаркой пустотой, сквозь неё тяжело жить, утомительно гулять.
В тот день единственное кафе в парке, куда они обычно вежливо просятся в туалет, оказалось закрыто. Какое-то санитарное приключение.
«Так Создатель испытывает нас и наше терпение», — подумала Валентина голосом Стаса.
– Ты что-то сказал? — спросила она вслух.
«Да. Разве вы не слушали?» — подумал Стас про себя.
– Да. Невелика, говорю, беда. Я схожу в торговый центр через дорогу. Вы будете здесь?
«Куда же я исчезну», — так и не сказала Валентина.
Но, тем не менее, когда Стас пропадает в мерцании липкого зелёного марева, Валентина поступает вопреки тому, что так и не сказала.
– Даже ветер затаился, — говорит она вслух, оставляет сиротливый стенд и уходит прочь, к немым деревьям, в разросшуюся подложку кустарника.
Кажется, с каждым шагом она забывает о существовании людей, делится своим беспамятством с растениями, обсыпанными световыми бляшками.
Валентина забирается вглубь до тех пор, пока не ощущает тугое сопротивление веток, несколькими движениями поднимает юбку и садится писать.
В этот самый момент сплетение веток прямо напротив неё пробуждается.
Будто кто-то теребит листву нетерпеливой рукой с изнанки, оставаясь до последнего скрыт от глаз, хоть вот-вот и появится.
Плеск. Борьба. Сопротивление.
«Фазан? Я ни разу не видела тут фазанов».
О нет, кажется, она проницает во взбудораженной полутьме признаки двух… трёх рук… Четвёртая оплетает первую, что жаждет и не жаждет вырваться на волю.
Тяжёлый, напористый торс вжимается в тугой мерцающий выгиб спины, в каждой точке прикосновения лучей проступает пот.
Ступни погружаются в землю так глубоко, будто это листва вскипает и поднимается выше допустимого уровня, выше меры.
Глаза Валентины раскрыты навстречу, но встреча будто отказывается происходить до конца, прячась в гулкое раскачивание на глазах молодеющих и затем вновь стареющих в толщину стволов.
Двое врастают друг в друга и борются за право оставаться за гранью зрачка.
Хлопанье. Всхлип. Облегчение.
И всё исчезает окончательно туда, откуда пришло внезапно.
Валентина не помнит, как встаёт, не помнит, как юбка опадает куполом вдоль, не помнит, как продирается сквозь потерявшую к ней интерес кустистую мешанину (кстати, это взаимно), не помнит, как выбирается на тропинку, под ошарашенные взгляды тревожных людей, тревожных детей, тревожных собак, не помнит, как подходит к ничего не значащему обломку Башни — великой и смехотворной фантазии о близости — не помнит, что спрашивает её раздосадованный Стас, а помнит Валентина только, что в руках Стас сжимает наполовину сжёванный багетный бутерброд, а она думает и говорит ему вслух про себя:
– Только что я стала свидетелем Иеговы.
2.
Бог сомнений, господь тающих иллюзий на кончике ускользающего дня
Молюсь тебе, тому, что таится на глубине меня, тому, что прячет своё облако среди пара чуждых дней, тому, что переходит из мужского обличья в женское, из женского в мужское — и далее, и далее, увлекаясь игрой, рассеивает внимание и любопытство среди перетекающих спин зверей, среди птиц, меняющих крыло на клюв и клюв на крыло
Ты, кто постоянен в своих сомнениях, ты, кто застыл в своём непостоянстве, как ветер, рассредоточенный по бугристому багровому ковру, ты, кто в то же время и вы, и они, и я, и то, что свободно от имени и навьючено всему на свете именами, абсолют, таящийся от постоянства
Божество неопределённости, твой черешок впадает в песню ребёнка, прильнувшего к окну поезда, чья поверхность оплетена убегающими струями дождя, божество, к которому я обращаюсь по воле, по зову, по прихоти, по велению самого себя
Я ничто иное, как взгляд, что скользит из тела, будто змея, и обвивается вокруг мраморных рук статуи в заброшенном саду, где с каждым днём черты высеченных лиц совершают путь, обратный старению, не покрываясь морщинами, но лишаясь всякого рельефа, и мускул змеи впивается в мимику и мышцы, будто стараясь впечатать в себя расправляющийся рельеф, будто предчувствуя, что и статуи, и нелюдимый сад, и держащиеся на последнем усилии человечьи остовы, — всё распрямится и достигнет зеркального натяжения, всё найдёт лазейку, куда утечь
Если бы я, если бы мы, если бы он, если бы кто
С замиранием сердца я зажмуриваюсь и переношусь обратно в недоступный теперь закуток квартиры, где я вырос, где коренные кресла казались вросшими в дёсны линолеума, где стены не сбрасывали кожу, где солнце всегда всходило посередине потолка
Здесь я пустил тебя в своё сердце, бог с ассиметричным лицом, с поочерёдно открытым левым или правым глазом, бог с жирным рыбьим хвостом и лапами с когтями, растущими из мягких розовых подушечек, здесь ты прятался от меня по углам, маскировался и дурачил, пока не ввинтился в затылок и не пробрался, цепляясь за позвоночник, в самое нутро
Ты явлен мне теперь во всей своей равнодушной страсти, проткнувшей тебя насквозь, как копьё, и переполненный аппендикс, надуваясь и расправляя отростки, прорывается через рану наружу, цепляясь лапками за журнальный столик с дневником погоды, за стенку с застывшим в ужасе выводком синих рыб, за деревянный диван с откидным сиденьем на балконе
Ты отражаешься во мне — и отражаешь мир так, как ему нравится, так, чтобы он пришёл в себя
Однажды ты проявился в виде плотника с рыбкой в руках и робкой улыбкой на лице, подпрыгнул и завис над землёй на пару суток; люди потом придумали целую увлекательную историю, в которой участвовали цари и пророки, предатели и нежно любящие ученики, утробные ясли и вонзившийся в разгорячённое небо крест; всё могло запомниться и совсем иначе: плотник, сколотивший множество удобных кресел для зевак, проходивших мимо ничем не примечательного холма
История могла быть любой, но она должна была облечься в форму, отрастить голову и пятки
Для меня же ты принял форму нездешнюю, незавершённую, вечно распадающуюся на фрагменты и куски, неразрушимую в своей разрушенности — форма, на ощупь пробирающаяся от человека к статуе, объятой лаской прошлогодних листьев
Форма жизни
Форма выживания
Форма сна, в котором твоё повторимое лицо прячется в неузнаваемых цветах на занавеске между моей первой комнатой и всем-всем-всем остальным
3.
Когда алкоголь горек, слова онемели, а смех заперт в горле, я включаю авторскую драматическую киноленту о франшизе «Форсаж»:
Между актёрами, которые снялись в первом «Форсаже» и кочуют из части в часть, установилась прочная, выходящая за рамки профессиональной этики связь.
Семья для них — не только декорации дома Торетто, дощатый стол с мисками кукурузы и рёбрышек на гриле, свет пива "Corona" в руке соратника. Для Дизеля, Родригес, Брюстер и Уокера сама серия фильмов стала чем-то вроде семейного очага, около которого принято собираться под пристальным надзором камер. Разыгрывая родство, в какой-то момент перестаёшь ощущать грань между игрой и настоящими чувствами сердца, но так, кажется, функционирует любая семья.
Репетиционная комната, где они придумывают трюки и расписывают на флип-борде сюжетные повороты, где отпускают воображение на волю, и оно несётся прочь, как спорткар без водителя, врезаясь в зрительские трибуны и разнося в щепки кости и черепа, пока Вин и Пол под смех Родригес и скептическое хмыканье Джорданы горячо спорят около старенького подтекающего кулера, освещённого упрямым, лупоглазым солнцем Америки, – вот пантеон их веры в нечто, что переживёт каждого из них по отдельности.
Сценарий седьмого фильма франшизы заходит в тупик: кажется, для настоящего прорыва не хватает чего-то очень важного. Незамысловатый и простой Дизель (и тут Батиста берёт новую для него высоту убедительности) внезапно осознаёт, что невозможно бесконечно наращивать «семью», что сама природа противится бесконечному расширению, и на самом деле их ограничивает их некий символический балласт, человеческая обуза, избавившись от которой каждый из оставшихся членов семьи сможет сделать шаг навстречу новому, сверхчеловеческому существованию.
Мысль прокатывается по комнате, как металлический шар, оглушая всех, мысль огромная, как шарик воздуха на пути к сердцу: кто-то должен быть принесён в жертву.
Кто-то как всегда должен умереть, чтобы история сдвинулась с насиженного места, как вагон по колее, с которой он сросся ржавчиной, кто-то должен лишиться человеческой оболочки, чтобы остальные сбросили её сами и уподобились верховным сущностям, повелевающим магнетизмом земель, гравитацией планет и потоками эфира, наделённым всевидящими очами спутников, неподвластным случайной гибели, чтобы вознеслись они на орбиту в оранжевых латах и смотрели сверху вниз на копошение человечков в красных бархатных сотах.
Кто же должен быть принесён в жертву?
Разумеется, самый человечный из всех.
И это общее озарение, как молния, перелетает из глаза в глаз, из глаза в глаз, пока не застревает занозой в зрачках Пола Уокера.
Помятый, плохо постаревший для блокбастера мальчишка в нелепых штанах из супермаркета, дежурной курточке и очередной футболке с логотипом спонсора, глядящий в пустое зеркало объектива с контуженно-серьёзной миной, под которой прячется растерянность и испуг от того, что все вокруг просят от него трюков и чудес. Бывший коп, будущий отец, настоящий муж, а, вернее, человек, всего лишь проходивший мимо съёмочной площадки обыватель, которого заманили в кадр, как в клетку, где не то чтобы тесно, но слишком хорошо видно собственную наготу перед величественной, вечной, облачённой в сверкающий многоступенчатый монолит сущностью жизни.
Ну, что ж, он совершит последнее чудо своими руками, и выбор он сделает сам.
Вин хлопает его по плечу и обнимает на прощанье, Джордана неожиданно для всех давит рыданья и остаётся на протертом диванчике, слёзы стекают по подбородку Мишель и прокладывают влажную дорожку вниз, и там как будто их путь тоже не окончится, думает Пол, точнее, Брайан О’Коннор, точнее, Райан Гослинг, точнее, человек, слишком и просто человек.
– Ты же понимаешь, что жертвоприношение требует соблюдения символических условностей, дружище? — буравит его добрыми свиными глазками Вин.
– Я всё сделаю как надо, не волнуйтесь, ребята.
Пол приезжает в родной город и садится за руль объезженного до тошноты Шевроле. Немного риска в капсуле надёжности, ведь главное в другом — не разбившись ни разу в кадре за шесть фильмов, через пару минут приплюснуться к лобовому стеклу мясной куклой, не успев даже вздохнуть, и чтобы никто не увидел, никто не заплакал, никто не ахнул в ужасе, закрывая рот, чтобы собственный дух не вылетел на волю.
Просто врезаться в столб и стать столпом замкнутого моментального света, который виден одному тебе.
Уже сев за руль и разогнавшись, он как будто видит сбоку тачку Вина, как в каждом из фильмов, Вин улыбается как-то по-новому, по-доброму, как папа, и тут Пол вспоминает, что забыл попросить ребят об очень важной вещи.
«Ребята, надеюсь, вы же просто перепишите сценарий так, что я умру в начале фильма где-то за кадром — а не придумаете какую-нибудь компьютерную херню, не пригласите Коула и Калеба, чтобы налепить братьям моё лицо, не снимете что-то многозначительное и душещипательное в финале, а просто отпустите меня похорошему, дадите уйти целиком и насовсем… Должны же быть у человека хоть какие-то пределы».
Но эта мысль почему-то оказывается медленнее довольно-таки неповоротливого старого Шевроле — и так и зависает, в растерянности и одиночестве, посреди ноябрьской трассы, покрытой уверенным инеем.
4.
П. и А. подходят к Средневековому залу с определённой целью, и цель была определена ими обоими в равной степени, и цель они делили друг на друга равно и полно.
П. и А. заходят в Средневековый зал — весь он выложен изнутри золотыми пластинами иконостасов, и П. кажется, что он попал в бронированное брюхо титана и чувствует спокойствие; в то же самое время А. чувствует, что его замуровывают в сундук, как кусок гниющей порфиры прячут от нищих глаз. Определённо и П., и А. тут неуместны.
П. и А. оба носят чёрную спортивку — так они чувствуют себя под защитой светонепроницаемого братства, что вколачивает дни удар за ударом в задеревенелую землю народную — и в противовес изнутри выпирают безлиственные столбы электропередач.
П. пришёл в Средневековый зал, чтобы посмотреть на уродцев с выломанными челюстями и неряшливо вылепленными мордами, А. пришёл в Средневековый зал, чтобы посмотреть на своё поросшее мелкой русой травкой отражение. Как уже было сказано, их цели определены и полностью совпадают.
П. и А. стоят напротив статуи деревянного Иисуса. Когда-то на его голову надевали терновую паклю, но теперь её нет, и вот он сидит — измотан и лыс, в набедренной повязке, весь покрытый шипами — заострённые капли крови на щеках, на плечах, на боках, на голенях и лодыжках, подними ступню — и там, так, что ходить больно.
Венец творения во плоти — как если бы сидел в раздолбанной сауне районного фитнес-центра.
Глядя на его скальп — единственный кусочек тела, чистый от колючек, — П. и А. вспоминают, как пару дней назад набили татуировки: у П. на предплечье — копьё, у А. — рана в подреберье.
П. смотрит на Иисуса своими раздвинутыми, как жвалы богомола, скулами, сверху втиснуты раскосые глаза. А. смотрит на Иисуса русым шлемом с прорезями для блеклого свечения. Их головы будто лежат на колоннах, покрытых чёрной драпировкой, и начинают ухмыляться сами собой, как если бы язык одновременно отказал им, и в распоряжении остался только пульс отупелой мимики.
П. и А. получают то, ради чего и оказались в Средневековом зале. Это не имеет никакого отношения к скачку во времени; всё, что происходит, кажется им отлитым из налитого золота.
А. разворачивается к П. и говорит:
– Я прощаю тебя за всё, что ты сделаешь со мной, потому что на всё воля твоя, — и в глазах его бледное зарево начинает разгораться.
П. поворачивается к А. и отвечает:
– Я ненавижу тебя за всё, что сделаю с тобой, потому что, я уверен, ты хочешь именно этого, — и густой кровяной сгусток прокладывает из ноздрей путь по складке.
П. и А. выходят из Средневекового зала и больше никогда не встречаются друг с другом.
П. записывается добровольцем и уходит на войну. Все деньги его мама прилежно снимает с карты на протяжении нескольких месяцев. Потом поступает особенно большая сумма, которую приходится заказывать в банке заранее, но, в итоге, вся она будет благополучно выплачена. П. тем временем обнаруживает себя одним из множества лиц, скалящихся и счастливых, исполненных высшего блага и смысла. Головы с озарёнными лицами валятся друга на друга, валятся и валятся сверху, рассыпаясь по полу незнакомого, неизвестно чьего города. П. зажмуривается, потому что среди лиц точно нет лица А., и сжимает автомат до последнего, до тех пор, пока не перестаёт чувствовать сжатие.
Что касается А., несколько лет он вынашивает, а после ещё несколько пишет роман, который так и не будет опубликован при его жизни. Понимая, что именно создание этого текста — главное, на что он способен, А. отказывается от любых способов прокормить себя, перестаёт заниматься образованием, футболом, сексом, собой, другими людьми, он понимает, что сюжет его жизни прописан до конца, и находиться в нём — всё равно что в сотый раз переслушивать песню, которую знаешь наизусть. Поэтому он с головой уходит в сюжет о волчонке-оборотне. Однажды волчонок забредает в дикий город и видит человека, прибитого к ветке. Вернувшись в лес, волчонок просит родителей также прибить его к ветке, потому что нет ничего лучше, чем висеть, раскорячив лапы, на ветке и быть в центре соприкосновения мириадов человечьих глаз. Родители не в силах выполнить просьбу волчонка, потому что любят его живым, и тогда волчонок идёт к своему другу по детским играм, и тот выполняет просьбу.
– Я сделал всё, чтобы мы смогли остаться друзьями, — думает П. – Я сделал всё, чтобы мы смогли остаться друзьями, — думает А.
Смотрительница Средневекового зала подходит к Иисусу, достаёт принесённую из дома стамеску и молоток и неловкими ударами начинает откалывать капли крови с туловища.
Капли падают на пол, как древесные клопы, но так и не раскрывают панцирей.
5.
КОРАЛЛОВЫЙ ИИСУС
Мировая экономика, испытывая невиданный рост ВВП, смогла наладить безостановочное, безотлагательное, безапелляционное производство Иисусов, и теперь у каждого человека, будь он нищ или богат, жив или мёртв, есть Иисус
Мой же Иисус коралловый, и нет его краснее и краше, нет его увечнее и нечеловечнее
Весь истекший драгоценной кровью и отлитый из неё, Он не столько пригвождён к кресту, сколько парит в подводной невесомости — локоны змеятся, но высечены, но колышутся, но замерли
Держит его не сила пригвождения, но сила натяжения: раскинуты руки — так не утонуть, рубиновое тело распласталось, как если бы его оберегали глубокие ладони
Коралловый Иисус, ты твёрд в своём веществе, но хрупок в своём существе
Коралловый Иисус говорит:
0.0 Я сотворён из коралла;
0.1 Коралл есть существо, противное земляной природе;
0.2 Он произрастает на скале и пускает корни вверх, в воду;
0.3 Всё его вещество есть накалённая неугасимая ветвь;
0.4 Ныне я обтёсан и обрублен до человеческого черешка;
0.5 Уложен в рамки познания и представления;
0.6 Ныне не рыбы кусают мою живительную плоть;
0.7 Ныне люди припадают губами, воображая чуждый вкус;
0.8 Кто меня узнает, кроме меня самого?
0.9 Как произрасту я, выкопанный из вод?
И тем не менее, и тем не менее
Я пролежу под стеклом, не тлея, до тех самых пор, пока воды не преодолеют робость и не возьмут своё
И первым же тварям морским, признавшим во мне родной обрубок, произнесу я нараспев:
1.0 Люди состоят из паршивых частей и золотых частиц
1.1 Люди охотятся друг на друга, пока не испустят воздух и не свалятся ниц
1.2 Люди лезут в других людей, чтобы проделать дыру и обрести нору
1.3 Сделай милость, останься с собой, и я к тебе поднырну
Но пока, но пока
Коралловый Иисус молчит, и я молчу, Он смотрит в лица, и я смотрю
И с наших мест очевидно только, что на околице сентября две вороны играют орехом на футбольном поле
Трибуны пусты — и мы не сговариваясь видим, что это хорошо
Как хорошо стоять в укромной выемке аллеи, в тени, когда солнцепёк, в сухости, когда дождит, и оберегать стенд с буклетами на множестве языков.
«Наша вавилонская стеночка», — называет её Валентина.
Мимо тревожные люди выгуливают детей, мимо дикие собаки выгуливают людей, а они со Стасом стоят себе тихо-тихо, неподвижно, и разговаривают вполголоса о своём.
Стас вызывающе молод, для своего аппетита к рассуждениям о Сущности Вещей слишком мало ест, и только воспитанная вежливость останавливает Валентину от того, чтобы предложить ему как-нибудь зайти в кафе — покушать, она с радостью угостит.
«Мы распространяем знания о Создателе Всего по всей Земле, до куда хватит наших ног, и пока мой язык не отсох, я не имею права молчать и прохлаждаться, не имею права, например, зайти в кафе и выпить капучино просто так. Я всегда на страже Создателя», — думает Стас вслух.
«А может, мы просто охраняем эти симпатичные буклетики от ветра? Ну, кто ещё захочет их полистать?» — думает Валентина про себя.
Иногда ей кажется, что из общего у них со Стасом только толстенькие лодыжки — ну прямо ножки белых грибов.
Август щедр на дни, переполненные плотной жаркой пустотой, сквозь неё тяжело жить, утомительно гулять.
В тот день единственное кафе в парке, куда они обычно вежливо просятся в туалет, оказалось закрыто. Какое-то санитарное приключение.
«Так Создатель испытывает нас и наше терпение», — подумала Валентина голосом Стаса.
– Ты что-то сказал? — спросила она вслух.
«Да. Разве вы не слушали?» — подумал Стас про себя.
– Да. Невелика, говорю, беда. Я схожу в торговый центр через дорогу. Вы будете здесь?
«Куда же я исчезну», — так и не сказала Валентина.
Но, тем не менее, когда Стас пропадает в мерцании липкого зелёного марева, Валентина поступает вопреки тому, что так и не сказала.
– Даже ветер затаился, — говорит она вслух, оставляет сиротливый стенд и уходит прочь, к немым деревьям, в разросшуюся подложку кустарника.
Кажется, с каждым шагом она забывает о существовании людей, делится своим беспамятством с растениями, обсыпанными световыми бляшками.
Валентина забирается вглубь до тех пор, пока не ощущает тугое сопротивление веток, несколькими движениями поднимает юбку и садится писать.
В этот самый момент сплетение веток прямо напротив неё пробуждается.
Будто кто-то теребит листву нетерпеливой рукой с изнанки, оставаясь до последнего скрыт от глаз, хоть вот-вот и появится.
Плеск. Борьба. Сопротивление.
«Фазан? Я ни разу не видела тут фазанов».
О нет, кажется, она проницает во взбудораженной полутьме признаки двух… трёх рук… Четвёртая оплетает первую, что жаждет и не жаждет вырваться на волю.
Тяжёлый, напористый торс вжимается в тугой мерцающий выгиб спины, в каждой точке прикосновения лучей проступает пот.
Ступни погружаются в землю так глубоко, будто это листва вскипает и поднимается выше допустимого уровня, выше меры.
Глаза Валентины раскрыты навстречу, но встреча будто отказывается происходить до конца, прячась в гулкое раскачивание на глазах молодеющих и затем вновь стареющих в толщину стволов.
Двое врастают друг в друга и борются за право оставаться за гранью зрачка.
Хлопанье. Всхлип. Облегчение.
И всё исчезает окончательно туда, откуда пришло внезапно.
Валентина не помнит, как встаёт, не помнит, как юбка опадает куполом вдоль, не помнит, как продирается сквозь потерявшую к ней интерес кустистую мешанину (кстати, это взаимно), не помнит, как выбирается на тропинку, под ошарашенные взгляды тревожных людей, тревожных детей, тревожных собак, не помнит, как подходит к ничего не значащему обломку Башни — великой и смехотворной фантазии о близости — не помнит, что спрашивает её раздосадованный Стас, а помнит Валентина только, что в руках Стас сжимает наполовину сжёванный багетный бутерброд, а она думает и говорит ему вслух про себя:
– Только что я стала свидетелем Иеговы.
2.
Бог сомнений, господь тающих иллюзий на кончике ускользающего дня
Молюсь тебе, тому, что таится на глубине меня, тому, что прячет своё облако среди пара чуждых дней, тому, что переходит из мужского обличья в женское, из женского в мужское — и далее, и далее, увлекаясь игрой, рассеивает внимание и любопытство среди перетекающих спин зверей, среди птиц, меняющих крыло на клюв и клюв на крыло
Ты, кто постоянен в своих сомнениях, ты, кто застыл в своём непостоянстве, как ветер, рассредоточенный по бугристому багровому ковру, ты, кто в то же время и вы, и они, и я, и то, что свободно от имени и навьючено всему на свете именами, абсолют, таящийся от постоянства
Божество неопределённости, твой черешок впадает в песню ребёнка, прильнувшего к окну поезда, чья поверхность оплетена убегающими струями дождя, божество, к которому я обращаюсь по воле, по зову, по прихоти, по велению самого себя
Я ничто иное, как взгляд, что скользит из тела, будто змея, и обвивается вокруг мраморных рук статуи в заброшенном саду, где с каждым днём черты высеченных лиц совершают путь, обратный старению, не покрываясь морщинами, но лишаясь всякого рельефа, и мускул змеи впивается в мимику и мышцы, будто стараясь впечатать в себя расправляющийся рельеф, будто предчувствуя, что и статуи, и нелюдимый сад, и держащиеся на последнем усилии человечьи остовы, — всё распрямится и достигнет зеркального натяжения, всё найдёт лазейку, куда утечь
Если бы я, если бы мы, если бы он, если бы кто
С замиранием сердца я зажмуриваюсь и переношусь обратно в недоступный теперь закуток квартиры, где я вырос, где коренные кресла казались вросшими в дёсны линолеума, где стены не сбрасывали кожу, где солнце всегда всходило посередине потолка
Здесь я пустил тебя в своё сердце, бог с ассиметричным лицом, с поочерёдно открытым левым или правым глазом, бог с жирным рыбьим хвостом и лапами с когтями, растущими из мягких розовых подушечек, здесь ты прятался от меня по углам, маскировался и дурачил, пока не ввинтился в затылок и не пробрался, цепляясь за позвоночник, в самое нутро
Ты явлен мне теперь во всей своей равнодушной страсти, проткнувшей тебя насквозь, как копьё, и переполненный аппендикс, надуваясь и расправляя отростки, прорывается через рану наружу, цепляясь лапками за журнальный столик с дневником погоды, за стенку с застывшим в ужасе выводком синих рыб, за деревянный диван с откидным сиденьем на балконе
Ты отражаешься во мне — и отражаешь мир так, как ему нравится, так, чтобы он пришёл в себя
Однажды ты проявился в виде плотника с рыбкой в руках и робкой улыбкой на лице, подпрыгнул и завис над землёй на пару суток; люди потом придумали целую увлекательную историю, в которой участвовали цари и пророки, предатели и нежно любящие ученики, утробные ясли и вонзившийся в разгорячённое небо крест; всё могло запомниться и совсем иначе: плотник, сколотивший множество удобных кресел для зевак, проходивших мимо ничем не примечательного холма
История могла быть любой, но она должна была облечься в форму, отрастить голову и пятки
Для меня же ты принял форму нездешнюю, незавершённую, вечно распадающуюся на фрагменты и куски, неразрушимую в своей разрушенности — форма, на ощупь пробирающаяся от человека к статуе, объятой лаской прошлогодних листьев
Форма жизни
Форма выживания
Форма сна, в котором твоё повторимое лицо прячется в неузнаваемых цветах на занавеске между моей первой комнатой и всем-всем-всем остальным
3.
Когда алкоголь горек, слова онемели, а смех заперт в горле, я включаю авторскую драматическую киноленту о франшизе «Форсаж»:
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ПОЛА УОКЕРА
Дэйв Батиста в роли Вина Дизеля
Зои Салдана в роли Мишель Родригес
Райан Гослинг в роли Пола Уокера
Ана де Армас в ролик Джорданы Брюстер
Другие актёры в роли «семьи» актёров в роли семьи Торетто
Между актёрами, которые снялись в первом «Форсаже» и кочуют из части в часть, установилась прочная, выходящая за рамки профессиональной этики связь.
Семья для них — не только декорации дома Торетто, дощатый стол с мисками кукурузы и рёбрышек на гриле, свет пива "Corona" в руке соратника. Для Дизеля, Родригес, Брюстер и Уокера сама серия фильмов стала чем-то вроде семейного очага, около которого принято собираться под пристальным надзором камер. Разыгрывая родство, в какой-то момент перестаёшь ощущать грань между игрой и настоящими чувствами сердца, но так, кажется, функционирует любая семья.
Репетиционная комната, где они придумывают трюки и расписывают на флип-борде сюжетные повороты, где отпускают воображение на волю, и оно несётся прочь, как спорткар без водителя, врезаясь в зрительские трибуны и разнося в щепки кости и черепа, пока Вин и Пол под смех Родригес и скептическое хмыканье Джорданы горячо спорят около старенького подтекающего кулера, освещённого упрямым, лупоглазым солнцем Америки, – вот пантеон их веры в нечто, что переживёт каждого из них по отдельности.
Сценарий седьмого фильма франшизы заходит в тупик: кажется, для настоящего прорыва не хватает чего-то очень важного. Незамысловатый и простой Дизель (и тут Батиста берёт новую для него высоту убедительности) внезапно осознаёт, что невозможно бесконечно наращивать «семью», что сама природа противится бесконечному расширению, и на самом деле их ограничивает их некий символический балласт, человеческая обуза, избавившись от которой каждый из оставшихся членов семьи сможет сделать шаг навстречу новому, сверхчеловеческому существованию.
Мысль прокатывается по комнате, как металлический шар, оглушая всех, мысль огромная, как шарик воздуха на пути к сердцу: кто-то должен быть принесён в жертву.
Кто-то как всегда должен умереть, чтобы история сдвинулась с насиженного места, как вагон по колее, с которой он сросся ржавчиной, кто-то должен лишиться человеческой оболочки, чтобы остальные сбросили её сами и уподобились верховным сущностям, повелевающим магнетизмом земель, гравитацией планет и потоками эфира, наделённым всевидящими очами спутников, неподвластным случайной гибели, чтобы вознеслись они на орбиту в оранжевых латах и смотрели сверху вниз на копошение человечков в красных бархатных сотах.
Кто же должен быть принесён в жертву?
Разумеется, самый человечный из всех.
И это общее озарение, как молния, перелетает из глаза в глаз, из глаза в глаз, пока не застревает занозой в зрачках Пола Уокера.
Помятый, плохо постаревший для блокбастера мальчишка в нелепых штанах из супермаркета, дежурной курточке и очередной футболке с логотипом спонсора, глядящий в пустое зеркало объектива с контуженно-серьёзной миной, под которой прячется растерянность и испуг от того, что все вокруг просят от него трюков и чудес. Бывший коп, будущий отец, настоящий муж, а, вернее, человек, всего лишь проходивший мимо съёмочной площадки обыватель, которого заманили в кадр, как в клетку, где не то чтобы тесно, но слишком хорошо видно собственную наготу перед величественной, вечной, облачённой в сверкающий многоступенчатый монолит сущностью жизни.
Ну, что ж, он совершит последнее чудо своими руками, и выбор он сделает сам.
Вин хлопает его по плечу и обнимает на прощанье, Джордана неожиданно для всех давит рыданья и остаётся на протертом диванчике, слёзы стекают по подбородку Мишель и прокладывают влажную дорожку вниз, и там как будто их путь тоже не окончится, думает Пол, точнее, Брайан О’Коннор, точнее, Райан Гослинг, точнее, человек, слишком и просто человек.
– Ты же понимаешь, что жертвоприношение требует соблюдения символических условностей, дружище? — буравит его добрыми свиными глазками Вин.
– Я всё сделаю как надо, не волнуйтесь, ребята.
Пол приезжает в родной город и садится за руль объезженного до тошноты Шевроле. Немного риска в капсуле надёжности, ведь главное в другом — не разбившись ни разу в кадре за шесть фильмов, через пару минут приплюснуться к лобовому стеклу мясной куклой, не успев даже вздохнуть, и чтобы никто не увидел, никто не заплакал, никто не ахнул в ужасе, закрывая рот, чтобы собственный дух не вылетел на волю.
Просто врезаться в столб и стать столпом замкнутого моментального света, который виден одному тебе.
Уже сев за руль и разогнавшись, он как будто видит сбоку тачку Вина, как в каждом из фильмов, Вин улыбается как-то по-новому, по-доброму, как папа, и тут Пол вспоминает, что забыл попросить ребят об очень важной вещи.
«Ребята, надеюсь, вы же просто перепишите сценарий так, что я умру в начале фильма где-то за кадром — а не придумаете какую-нибудь компьютерную херню, не пригласите Коула и Калеба, чтобы налепить братьям моё лицо, не снимете что-то многозначительное и душещипательное в финале, а просто отпустите меня похорошему, дадите уйти целиком и насовсем… Должны же быть у человека хоть какие-то пределы».
Но эта мысль почему-то оказывается медленнее довольно-таки неповоротливого старого Шевроле — и так и зависает, в растерянности и одиночестве, посреди ноябрьской трассы, покрытой уверенным инеем.
4.
П. и А. подходят к Средневековому залу с определённой целью, и цель была определена ими обоими в равной степени, и цель они делили друг на друга равно и полно.
П. и А. заходят в Средневековый зал — весь он выложен изнутри золотыми пластинами иконостасов, и П. кажется, что он попал в бронированное брюхо титана и чувствует спокойствие; в то же самое время А. чувствует, что его замуровывают в сундук, как кусок гниющей порфиры прячут от нищих глаз. Определённо и П., и А. тут неуместны.
П. и А. оба носят чёрную спортивку — так они чувствуют себя под защитой светонепроницаемого братства, что вколачивает дни удар за ударом в задеревенелую землю народную — и в противовес изнутри выпирают безлиственные столбы электропередач.
П. пришёл в Средневековый зал, чтобы посмотреть на уродцев с выломанными челюстями и неряшливо вылепленными мордами, А. пришёл в Средневековый зал, чтобы посмотреть на своё поросшее мелкой русой травкой отражение. Как уже было сказано, их цели определены и полностью совпадают.
П. и А. стоят напротив статуи деревянного Иисуса. Когда-то на его голову надевали терновую паклю, но теперь её нет, и вот он сидит — измотан и лыс, в набедренной повязке, весь покрытый шипами — заострённые капли крови на щеках, на плечах, на боках, на голенях и лодыжках, подними ступню — и там, так, что ходить больно.
Венец творения во плоти — как если бы сидел в раздолбанной сауне районного фитнес-центра.
Глядя на его скальп — единственный кусочек тела, чистый от колючек, — П. и А. вспоминают, как пару дней назад набили татуировки: у П. на предплечье — копьё, у А. — рана в подреберье.
П. смотрит на Иисуса своими раздвинутыми, как жвалы богомола, скулами, сверху втиснуты раскосые глаза. А. смотрит на Иисуса русым шлемом с прорезями для блеклого свечения. Их головы будто лежат на колоннах, покрытых чёрной драпировкой, и начинают ухмыляться сами собой, как если бы язык одновременно отказал им, и в распоряжении остался только пульс отупелой мимики.
П. и А. получают то, ради чего и оказались в Средневековом зале. Это не имеет никакого отношения к скачку во времени; всё, что происходит, кажется им отлитым из налитого золота.
А. разворачивается к П. и говорит:
– Я прощаю тебя за всё, что ты сделаешь со мной, потому что на всё воля твоя, — и в глазах его бледное зарево начинает разгораться.
П. поворачивается к А. и отвечает:
– Я ненавижу тебя за всё, что сделаю с тобой, потому что, я уверен, ты хочешь именно этого, — и густой кровяной сгусток прокладывает из ноздрей путь по складке.
П. и А. выходят из Средневекового зала и больше никогда не встречаются друг с другом.
П. записывается добровольцем и уходит на войну. Все деньги его мама прилежно снимает с карты на протяжении нескольких месяцев. Потом поступает особенно большая сумма, которую приходится заказывать в банке заранее, но, в итоге, вся она будет благополучно выплачена. П. тем временем обнаруживает себя одним из множества лиц, скалящихся и счастливых, исполненных высшего блага и смысла. Головы с озарёнными лицами валятся друга на друга, валятся и валятся сверху, рассыпаясь по полу незнакомого, неизвестно чьего города. П. зажмуривается, потому что среди лиц точно нет лица А., и сжимает автомат до последнего, до тех пор, пока не перестаёт чувствовать сжатие.
Что касается А., несколько лет он вынашивает, а после ещё несколько пишет роман, который так и не будет опубликован при его жизни. Понимая, что именно создание этого текста — главное, на что он способен, А. отказывается от любых способов прокормить себя, перестаёт заниматься образованием, футболом, сексом, собой, другими людьми, он понимает, что сюжет его жизни прописан до конца, и находиться в нём — всё равно что в сотый раз переслушивать песню, которую знаешь наизусть. Поэтому он с головой уходит в сюжет о волчонке-оборотне. Однажды волчонок забредает в дикий город и видит человека, прибитого к ветке. Вернувшись в лес, волчонок просит родителей также прибить его к ветке, потому что нет ничего лучше, чем висеть, раскорячив лапы, на ветке и быть в центре соприкосновения мириадов человечьих глаз. Родители не в силах выполнить просьбу волчонка, потому что любят его живым, и тогда волчонок идёт к своему другу по детским играм, и тот выполняет просьбу.
– Я сделал всё, чтобы мы смогли остаться друзьями, — думает П. – Я сделал всё, чтобы мы смогли остаться друзьями, — думает А.
Смотрительница Средневекового зала подходит к Иисусу, достаёт принесённую из дома стамеску и молоток и неловкими ударами начинает откалывать капли крови с туловища.
Капли падают на пол, как древесные клопы, но так и не раскрывают панцирей.
5.
КОРАЛЛОВЫЙ ИИСУС
Мировая экономика, испытывая невиданный рост ВВП, смогла наладить безостановочное, безотлагательное, безапелляционное производство Иисусов, и теперь у каждого человека, будь он нищ или богат, жив или мёртв, есть Иисус
Мой же Иисус коралловый, и нет его краснее и краше, нет его увечнее и нечеловечнее
Весь истекший драгоценной кровью и отлитый из неё, Он не столько пригвождён к кресту, сколько парит в подводной невесомости — локоны змеятся, но высечены, но колышутся, но замерли
Держит его не сила пригвождения, но сила натяжения: раскинуты руки — так не утонуть, рубиновое тело распласталось, как если бы его оберегали глубокие ладони
Коралловый Иисус, ты твёрд в своём веществе, но хрупок в своём существе
Коралловый Иисус говорит:
0.0 Я сотворён из коралла;
0.1 Коралл есть существо, противное земляной природе;
0.2 Он произрастает на скале и пускает корни вверх, в воду;
0.3 Всё его вещество есть накалённая неугасимая ветвь;
0.4 Ныне я обтёсан и обрублен до человеческого черешка;
0.5 Уложен в рамки познания и представления;
0.6 Ныне не рыбы кусают мою живительную плоть;
0.7 Ныне люди припадают губами, воображая чуждый вкус;
0.8 Кто меня узнает, кроме меня самого?
0.9 Как произрасту я, выкопанный из вод?
И тем не менее, и тем не менее
Я пролежу под стеклом, не тлея, до тех самых пор, пока воды не преодолеют робость и не возьмут своё
И первым же тварям морским, признавшим во мне родной обрубок, произнесу я нараспев:
1.0 Люди состоят из паршивых частей и золотых частиц
1.1 Люди охотятся друг на друга, пока не испустят воздух и не свалятся ниц
1.2 Люди лезут в других людей, чтобы проделать дыру и обрести нору
1.3 Сделай милость, останься с собой, и я к тебе поднырну
Но пока, но пока
Коралловый Иисус молчит, и я молчу, Он смотрит в лица, и я смотрю
И с наших мест очевидно только, что на околице сентября две вороны играют орехом на футбольном поле
Трибуны пусты — и мы не сговариваясь видим, что это хорошо