Леонид Полонейчик
Родился 6 ноября 1999 года. Живёт и пишет в Москве.
Дерево
Рассказ о ложных воспоминаниях, которые отравляют бесконечный момент.
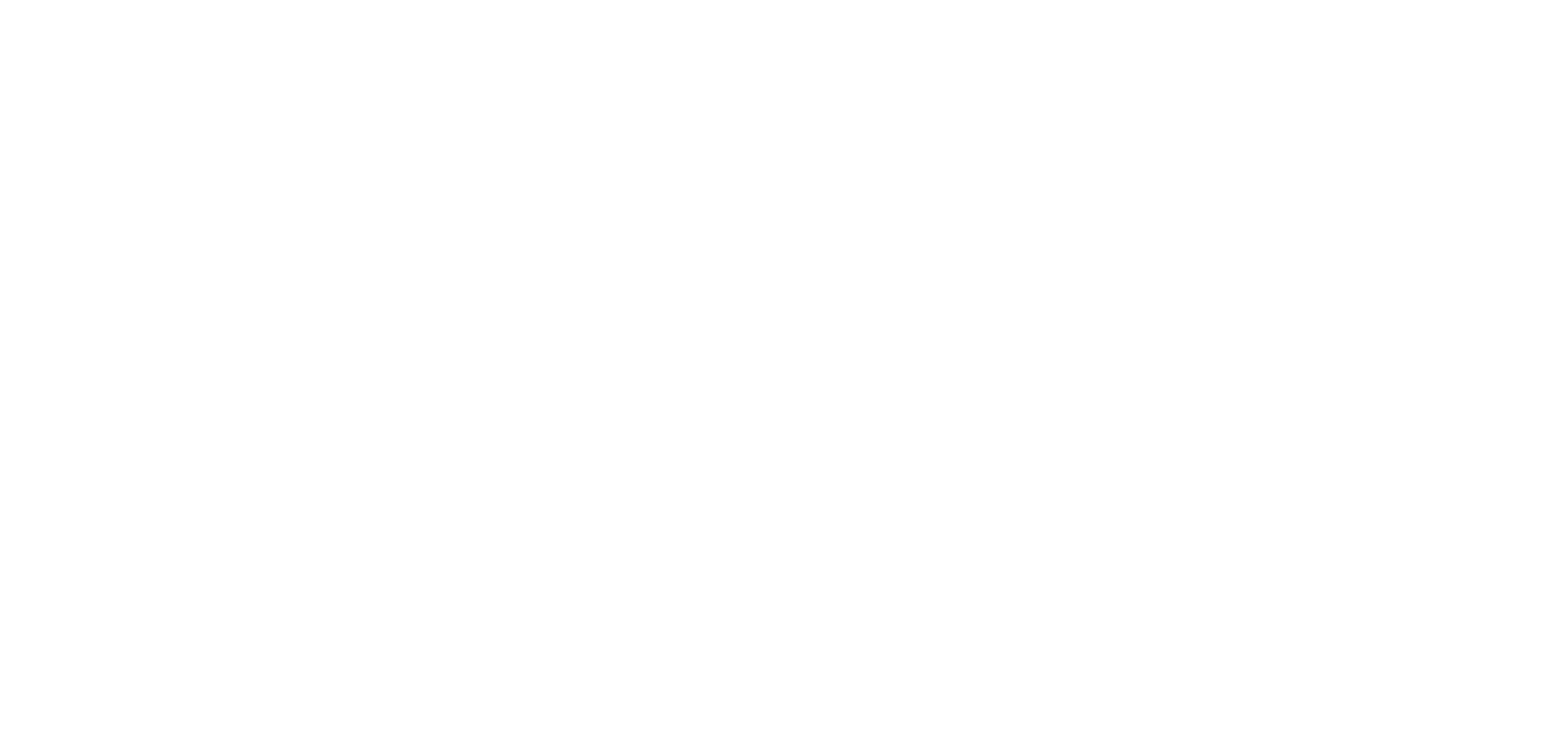
I
Заканчивалась осень. Я выехал за город. Взял с собой фотоаппарат. В электричке фотографировать было нечего, но я всё равно фиксировал окружающее. Два неплохих снимка. Сильно не думал над ними. Поймал момент, как бабочку в сачок. Щёлк: перспектива кадра несколько наклонена, запечатлённое пространство — сквозь двери вглубь вагона, вся жизнь там; несколько силуэтов перемещаются, точнее – застыли в перемещении. У них нет лиц — только очертания. Надо же, никогда не задумывался, что второй план может выглядеть лучше, нежели первый. Поставил себе задачу: за городом фотографировать только детали, что не сразу бросаются в глаза. Так лучше запомнится поездка. Раньше я фотографировал общий план. Мне казалось нужным фотографировать красоту. В кадр обязательно должно было влезть побольше объектов. Раньше в моих снимках не было выразительности. Мой тренировочный снимок из электрички – сама выразительность. Фокус на объекте – силуэты за дверью, второй план. Ничего лишнего – сплошная деталь, прорезающая пустоту красоты. Кадр и не был красив. Я над ним не долго думал, отчего хотелось долго в него всматриваться.
Постепенно городские панельки сменялись старенькими дачными домиками, а пейзаж из свободных полей, извивающихся рек и рогатых деревьев наполнял меня спокойствием. Взгляд не расплетался по городской мешанине. Однотонность поздней осени скорее выглядела деталью, что проплывает речкой, нежели набором из несовместимых домов города. Поэтому вглядеться во второй план было проще – взгляд не отскакивал от объекта к объекту, а плавно вырисовывал линию. Создавалась некая карусель кадров: река плавно вытекала в поля, а поля подводили к деревьям, от них в серое одеяло неба. Своеобразный фото-триптих, обрамлённый рамкой серых надутых облаков, околдовывал меня до самой станции.
Глушь окончательно стёрла признаки разумной жизни, когда я приехал на нужную мне станцию. Не так далеко от города — полтора часа езды — а будто оказался по ту сторону изгороди. Исключительно редкий ветер, поспешно проглаживая пожелтевшую траву, напоминал о всеобщем движении. Дорога ровной линией вычерчивала мне путь до места, куда я направлялся. Рогатые деревья по обе стороны оставили на себе несколько листьев, и как пауки не выпускали из паутины свою добычу. Даже ветер не мог освободить их из скрюченных ветвей. Я сфотографировал несколько листьев, заключённых в небрежные объятия. Они выглядели печально. Будто хотели вот-вот опасть. Настроение не из лучших. Вроде апатии. Когда застыл и не можешь подвинуться в сторону. Когда и не хочется двигаться. Не знаю, хотелось ли двигаться листьям, или они не прочь были остаться в ветвях, но я решил, что им тесно. Мой взгляд придал фотографии второй план – той самой выразительности. Объект – оставшиеся листья – сам по себе ничего не выражал, но под моим взглядом – обрёл глубину. Тем лучше. Если бы я сфотографировал общий план рогатых деревьев, а не сосредоточился на их внутреннем составляющем, вышло бы плоско. Листья бы потерялись, несмотря на их малое количество, я бы не думал о них; не придал бы самой глубины. Они бы стёрлись, точно их никогда не существовало. А так им следовало остаться в глубине моего фотоаппарата.
II
Я шел по извилистой тропинке в сторону нужного места. Проходя болотистый пруд, в котором когда-то можно было купаться, я вспоминал об окончании всего. С отцом мы часто там купались, но после его смерти пруд стал тускнеть и зарастать тиной, постепенно умирая на глазах из года в год. Никогда его не фотографировал. И так всегда припрятана фотография меня с отцом, где позади нас этот пруд; ещё жив, без явных признаков заболевания. Я закутан в полотенце, лицо моё не то радостное, не то печальное; меня только что вынули из воды. Отец гордо стоит в плавках и на его лице запечатлено счастливое подмигивание. Таким я его и запомнил. Нечего было фотографировать умерший пруд без нас. Детали просто не существовало бы на фотографии. Он стал по-своему красивым и смешался с лесом, воссоединился со своим соседом. На его поверхности плавало несколько опавших листьев. Казалось, что они не совсем хотели опасть в умирающий пруд; так повелел ветер. Их я запечатлел. Они утопали в тине. Всё же фиксировать смерть – вот моё увлечение. Своеобразный некролог.
Но пруд не то место, куда я шёл. Он лишь подводил к нему. Точнее: являлся неотъемлемой его частью. Лишь частью. Взобравшись на холм, передо мной расстелилось, словно шерстяной плед, пожелтевшее поле. Снег точно заплатками лёг неровными и редкими кусками. Я замер. Камера в руках застыла, ладони слегка потряхивало. Мог бы я поднять камеру, чтобы запечатлеть объект в центре поля, ради которого и приехал? Мог бы. Но я этого не сделал. Объект в центре поля перестал существовать. Не нужно было подходить ближе, чтобы в этом удостовериться. Его и с места, где я замер, ясно видно. Объект моментально бросается в глаза. Бросался в глаза. Было ясно видно. Дерево. Большое дерево. «Сына, не бойсь, держу», — сказал папа и поднял меня на самую верхнюю ветвь. Ветвь была толстой, выдержала бы нас обоих. Я удобно на ней уселся. С неё виднелся наш дом. Папа залез следом за мной. «Я говорил, что будет не так страшно». «Говорил». «Не так страшно?». «Совсем не страшно», — улыбнулся я. Мы не так давно искупались в холодной воде пруда неподалёку. «Завтра тебя на карьер свожу». Завтра папа умер. Когда же срубили дерево? Да что мне до этого, в самом деле. Я сфотографировал пустое поле, покрытое редкими пятнами снега. Получилось совсем не выразительно. Я запечатлел смерть.

