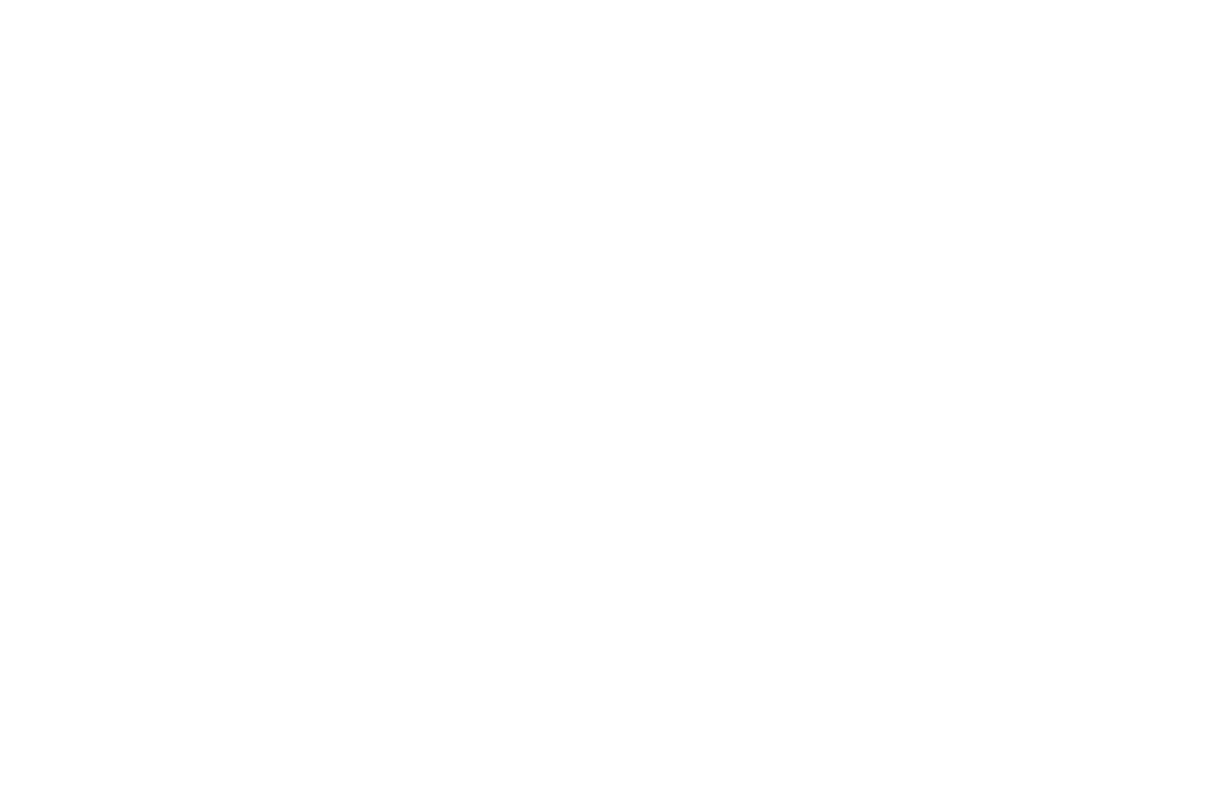Мария Шушпанова
Автриса. Родилась в Ижевске. Училась на филологическом факультете МГУ, с 2021 года — студентка Литературного Института. Публиковалась в журналах "Юность" и "Пашня", а так же в альманахе "Полдень".
«Год, что я провела с тобой, перед тем как мир
распался на атомы»
Это текст-коллаж с элементами автофикшена. Во время работы над ним я обращалась не только к событиям давно (эмоционально давно) ушедшей эпохи, не только к пейзажам, что были для меня тогда самыми чуткими собеседниками, но и к языку, которым я пользовалась в те годы. Это была попытка оглянуться назад — на себя, как писательницу, в первую очередь.
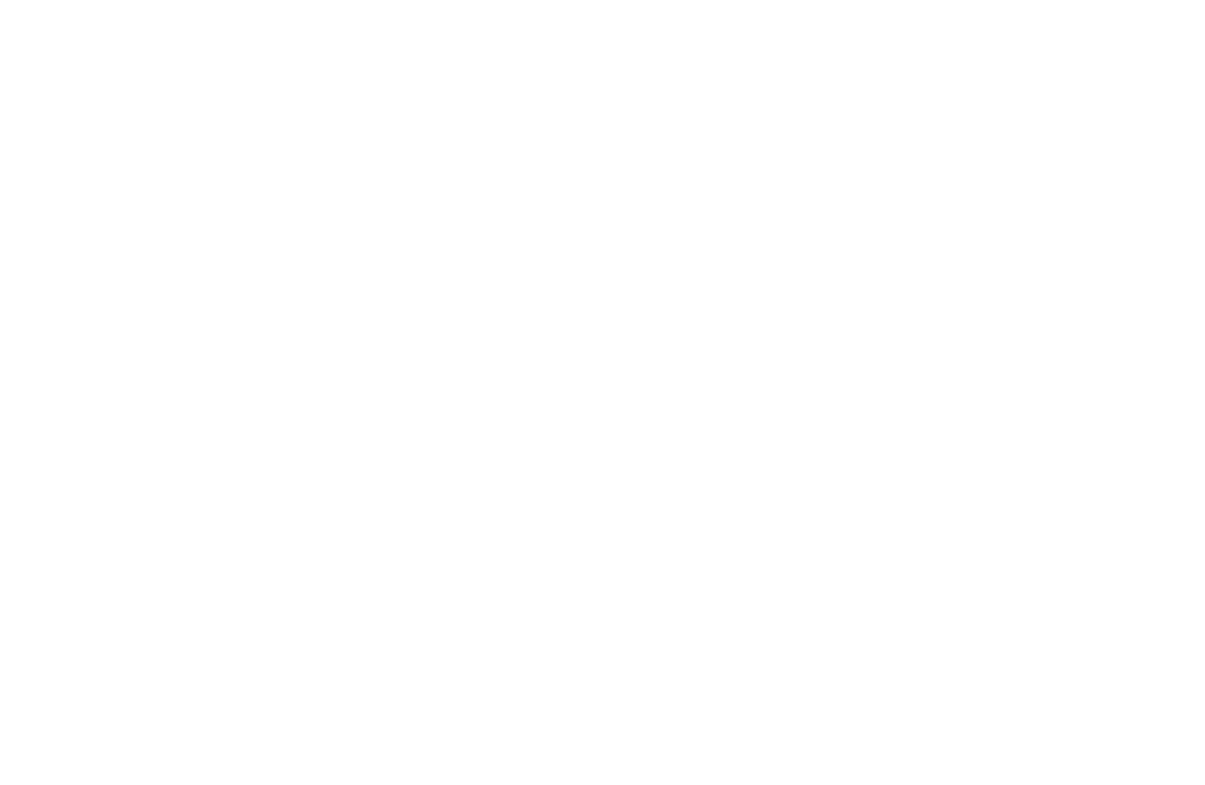
Этот город охраняется полицией. Выхожу из дома осторожно, заранее придумав оправдание: несу бабушке пирожки. Выбираю самые длинные и грязные тропинки через лес и спящие дачи. Нестрашно, если запачкаю ботинки. Все для того, чтобы встретиться с выпотрошенным миром наедине. Заполняю своим дыханием лакуны во дворах. Человечество исчезло в черном пятисотлитровом мешке.
Солнце раскрошило снег. Не прошло и дня, как сугробы в себя впитала обесцвеченная земля. Остались только небольшие белые зеркальца — там, где стоят здоровые четырехлапые сосны. Сосны вообще сохраняют все: воду из-под зимы, зеленые стеклышки с кострища. Воспоминания о снежной бабе из шариков мороженого. Воспоминания о мире, когда он только родился.
Ты просишь меня взять книжку потолще.
— Двести пятьдесят четвертая страница, двадцатая сверху.
— А вопрос?
— Я тебе нравлюсь?
Снимаю на пленку автопортрет: пустой стул на лужайке в сосновом лесу.
Твое лицо изменилось в тот же миг, и я почувствовала себя обманутой.
Засыпаю, когда кожа уже сиреневеет. Наша разлука стала еще на день короче. Хотя мы ведь еще не встречались, значит, дни нужно вычитать из вечности.
Из фруктов тебе очень нравятся финики. Если разбить гроздь фиников об асфальт, то вся земля напитается восточным солнцем, кирпич напитается южным солнцем, а твои глаза — северным.
Цвет радужки имеет свойство меняться в зависимости от некоторых условий. Земля, зеленая от опавших листьев. Земля, золотая от упавших фруктов. Небо, побледневшее от нескольких слов, в которые почему-то хочется верить.
Яблоневые цветы рассыпались, и их нежные лепестки, разбросанные по дорожкам, точно клочки кальки, уже сгнили под утренними дождями. Гибкие березовые кости скованны теперь тяжелой зеленой плотью. Одуванчики попали под казнь, и по всей улице нынче пахнет травой, как кровью. Обросли белым хлопком облака.
Весна умирает, не дождавшись последнего числа.
Сажусь на корточки, слежу за переходящим дорогу слизняком. Тянущийся за ним канатик слюны прошивает асфальт. Чем плотнее отражение солнца в пруде, тем ближе он подкрадывается к набухшим камышам на холмистом берегу.
— Знаете, мне уже пора.
Время вьет из меня веревки. Чтобы Катя с Митей ничего не заподозрили — не знаю, как от них избавиться — сажусь на метро, хотя пешком добираться до тебя гораздо быстрее. И все равно они идут караулить твой подъезд. Они не знают, что я буду мять ядовито-розовые пионы у тебя во дворе, носить твою одежду, расставлять твои книги по алфавиту, лежать с тобою на краю узкой полуторной кровати, не зная, как заснуть. Что ты будешь смотреть в объектив моей камеры, меряться со мной размером ступни, обижаться на меня за цвет помады, притворяться, что тебе хочется обсудить со мной Вергилия и Джойса. Мите с Катей просто хочется подшутить над отличником, в очередной раз отказавшегося от прогулки с друзьями ради экзаменов.
Рано или поздно слизень устанет ползти до пруда и поймет, что путешествовать в утином желудке было бы легче и веселее.
От одной пощечины на мгновение становится светло, как днем. Молния сожгла чайник с роутером, швырнула кошку в стену, выдернула из земли за перья покойников — куда нос ни сунь, всюду пахнет червями. Очаровательные в своей беспомощности. Если случайно — или нет — раздавишь такого, не отличишь его труп от потерявшейся резинки для волос. А под микроскопом у него белое семя, красная кровь, сгустившаяся в ряд маленьких сердечек, комочки нейронов. На вид он почти как человек.
В твоем воображении я лежу на боку, пряча ладони между бедер. Я стою на крыльце разливайки, ослепшая от дождя, понятия не имея, как доплыть до дома — то есть в место, что я зову домом, когда я не с тобой.
Тебе до сих пор нравится ощущение тепла от моих рук на твоей спине. По крайней мере, нравилось, когда ты обнимал меня в последний раз, на вокзале.
Иногда мне кажется, что я больна. Я не знаю, как мне быть. Даже «Эсса» сегодня невкусная.
Ты слышал про это заклинание? Если сказать: «Я запомню это на всю жизнь», — момент точно вырежется в твоей памяти. Новая лоджия. Мы лежим под решеткой из белого света и пыли. Ты плачешь — потому, что я заплакала.
В сентябре дни становятся короче, и это пугает ее: ей кажется, что чернота протекает сильнее из ее грудной клетки, когда щелочка света между рассветом и сумерками сужается, что эти две черноты синхронизируются между собой. На самом деле это все пустые оправдания, летом ей никогда не живется хорошо, особенно таким солнечным и жарким, как это, она всегда оживает только к полуночи — начинает петь и танцевать на остывшем балконе. Она знает об этом — и все равно боится прихода осени (как боится любого будущего — маленького или большого): ей не хочется думать о том, что однажды она выйдет из автобуса у платформы и увидит алые клены, увидит рябины в ртутно-красных стрелах, и что вдруг из ниоткуда повеет сладкой гнильцой, и что плечи ее задрожат от того, какими прекрасными ей покажутся эти напоминания о смерти.
Сегодня, кстати, была у него, не могла отделаться от чувства, что что-то не так. Слишком короткие волосы, слишком быстро встали из-за стола, слишком мало разговоров в постели и вообще.
Над рекой набухает туман. Одинокая черная лодка, зацепившись за его паутину, качается на кругах водомерки и ждет, когда ее проглотит молочный кокон. У горизонта небо воспалено. Чешу глаза после бессонной ночи.
Облака, тонкие, как ребра, готовы принять меня в свои объятия. Пока я различаю цвет листьев в хрусте под ногами, я могу шутить и смеяться. Слышу и вижу людей вокруг, пока моя тень еще маленькая и бежит впереди меня. Но вечером, когда местные запирают двери на ключ и завешиваются шторами, я могу разговаривать только с мертвыми. В темноте моя тревога растет быстрее. В тишине — больнее бьет.
Солнце раскрошило снег. Не прошло и дня, как сугробы в себя впитала обесцвеченная земля. Остались только небольшие белые зеркальца — там, где стоят здоровые четырехлапые сосны. Сосны вообще сохраняют все: воду из-под зимы, зеленые стеклышки с кострища. Воспоминания о снежной бабе из шариков мороженого. Воспоминания о мире, когда он только родился.
Ты просишь меня взять книжку потолще.
— Двести пятьдесят четвертая страница, двадцатая сверху.
— А вопрос?
— Я тебе нравлюсь?
Снимаю на пленку автопортрет: пустой стул на лужайке в сосновом лесу.
Твое лицо изменилось в тот же миг, и я почувствовала себя обманутой.
Засыпаю, когда кожа уже сиреневеет. Наша разлука стала еще на день короче. Хотя мы ведь еще не встречались, значит, дни нужно вычитать из вечности.
Из фруктов тебе очень нравятся финики. Если разбить гроздь фиников об асфальт, то вся земля напитается восточным солнцем, кирпич напитается южным солнцем, а твои глаза — северным.
Цвет радужки имеет свойство меняться в зависимости от некоторых условий. Земля, зеленая от опавших листьев. Земля, золотая от упавших фруктов. Небо, побледневшее от нескольких слов, в которые почему-то хочется верить.
Яблоневые цветы рассыпались, и их нежные лепестки, разбросанные по дорожкам, точно клочки кальки, уже сгнили под утренними дождями. Гибкие березовые кости скованны теперь тяжелой зеленой плотью. Одуванчики попали под казнь, и по всей улице нынче пахнет травой, как кровью. Обросли белым хлопком облака.
Весна умирает, не дождавшись последнего числа.
Сажусь на корточки, слежу за переходящим дорогу слизняком. Тянущийся за ним канатик слюны прошивает асфальт. Чем плотнее отражение солнца в пруде, тем ближе он подкрадывается к набухшим камышам на холмистом берегу.
— Знаете, мне уже пора.
Время вьет из меня веревки. Чтобы Катя с Митей ничего не заподозрили — не знаю, как от них избавиться — сажусь на метро, хотя пешком добираться до тебя гораздо быстрее. И все равно они идут караулить твой подъезд. Они не знают, что я буду мять ядовито-розовые пионы у тебя во дворе, носить твою одежду, расставлять твои книги по алфавиту, лежать с тобою на краю узкой полуторной кровати, не зная, как заснуть. Что ты будешь смотреть в объектив моей камеры, меряться со мной размером ступни, обижаться на меня за цвет помады, притворяться, что тебе хочется обсудить со мной Вергилия и Джойса. Мите с Катей просто хочется подшутить над отличником, в очередной раз отказавшегося от прогулки с друзьями ради экзаменов.
Рано или поздно слизень устанет ползти до пруда и поймет, что путешествовать в утином желудке было бы легче и веселее.
От одной пощечины на мгновение становится светло, как днем. Молния сожгла чайник с роутером, швырнула кошку в стену, выдернула из земли за перья покойников — куда нос ни сунь, всюду пахнет червями. Очаровательные в своей беспомощности. Если случайно — или нет — раздавишь такого, не отличишь его труп от потерявшейся резинки для волос. А под микроскопом у него белое семя, красная кровь, сгустившаяся в ряд маленьких сердечек, комочки нейронов. На вид он почти как человек.
В твоем воображении я лежу на боку, пряча ладони между бедер. Я стою на крыльце разливайки, ослепшая от дождя, понятия не имея, как доплыть до дома — то есть в место, что я зову домом, когда я не с тобой.
Тебе до сих пор нравится ощущение тепла от моих рук на твоей спине. По крайней мере, нравилось, когда ты обнимал меня в последний раз, на вокзале.
Иногда мне кажется, что я больна. Я не знаю, как мне быть. Даже «Эсса» сегодня невкусная.
Ты слышал про это заклинание? Если сказать: «Я запомню это на всю жизнь», — момент точно вырежется в твоей памяти. Новая лоджия. Мы лежим под решеткой из белого света и пыли. Ты плачешь — потому, что я заплакала.
В сентябре дни становятся короче, и это пугает ее: ей кажется, что чернота протекает сильнее из ее грудной клетки, когда щелочка света между рассветом и сумерками сужается, что эти две черноты синхронизируются между собой. На самом деле это все пустые оправдания, летом ей никогда не живется хорошо, особенно таким солнечным и жарким, как это, она всегда оживает только к полуночи — начинает петь и танцевать на остывшем балконе. Она знает об этом — и все равно боится прихода осени (как боится любого будущего — маленького или большого): ей не хочется думать о том, что однажды она выйдет из автобуса у платформы и увидит алые клены, увидит рябины в ртутно-красных стрелах, и что вдруг из ниоткуда повеет сладкой гнильцой, и что плечи ее задрожат от того, какими прекрасными ей покажутся эти напоминания о смерти.
Сегодня, кстати, была у него, не могла отделаться от чувства, что что-то не так. Слишком короткие волосы, слишком быстро встали из-за стола, слишком мало разговоров в постели и вообще.
Над рекой набухает туман. Одинокая черная лодка, зацепившись за его паутину, качается на кругах водомерки и ждет, когда ее проглотит молочный кокон. У горизонта небо воспалено. Чешу глаза после бессонной ночи.
Облака, тонкие, как ребра, готовы принять меня в свои объятия. Пока я различаю цвет листьев в хрусте под ногами, я могу шутить и смеяться. Слышу и вижу людей вокруг, пока моя тень еще маленькая и бежит впереди меня. Но вечером, когда местные запирают двери на ключ и завешиваются шторами, я могу разговаривать только с мертвыми. В темноте моя тревога растет быстрее. В тишине — больнее бьет.
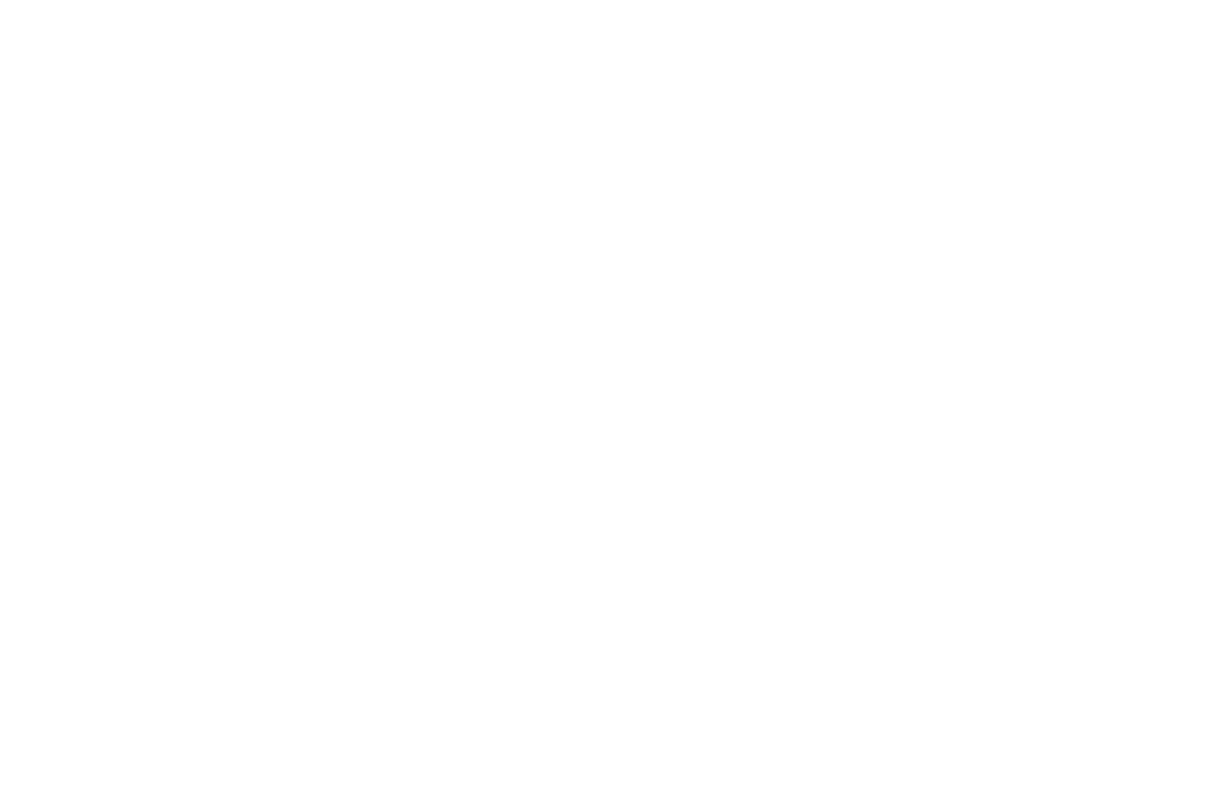
Снились сегодня ярко-желтые цветы во дворе и темно-синий в полосочку халат. Так хочется туда же и к нему же.
Будешь ли ты так же любить меня, если я потеряю голос? Если у меня не будет этих красивых пальцев? Будешь ли ты так же любить меня, если однажды я перестану быть человеком?
Трава выжжена дождем. У сосен крутится то ли туман, то ли дым: воздух густеет вокруг оставшихся отрывков листвы. Что-то страшное грядет, разрешение чего-то.
Бетонная свалка. Серые иголки прокладывают сестрам тропинку к замшелому каменному надгробию. Le chien a été écrasé par une voiture. Жутко. В день всех святых шепчут под инеем проволочные березы; за мокрыми досками спящих дач колдуньи собираются на шабаш. «Ой, я накликала беду, ты опять лежишь в бреду». Золотистые собаки жуют влажную землю. От девочки-волшебницы до ведьмы всего один шаг. Проливаю слезы над мертвыми рудбекиями. Угольная губка впитала соль вместе с дождем; нежно срываю ее и прижимаю к губам.
Из кислой ягодной пены рождается глаз на моей руке. Раковина в ванной, точно мумия, вся в бинтах. Я знаю, кто открыл мне его. Мягкий зрачок, бордово-черный, как вишневая косточка, смотрит на меня с осуждением. Неделя, вторая; склера ссыхается, сковыриваю с предплечья сухофрукт (я такое не люблю).
Возьми в ладошку третий глаз — кац!
Мороз мажет на щеках йодную сеточку. Лесная тропка гладкая, словно глотка; дрожу — резонирую. Через темно-синие шторки сосняка смотрю, как в глазок, в горящее окно на первом этаже. Мало ли в стране панелей таких бархатно-оранжевых картинок? Точно памятники Ленину, они есть в каждом городе — и все вселяют под ложечку одинаковое чувство:
В последнее время жутко хочется домой. Проблема в том, что это желание всегда со мной — куда бы ни пришла, куда бы ни приехала.
Больше я не включаю при тебе свои любимые песни. Не ношу сережки (тебе кажется, они портят впечатление от моего портрета) и каблуки — из-за роста. Я стараюсь вслушиваться в гаражный шум, который ты называешь музыкой, ужинать под американский Ютуб, читать книжки из программы. Я правда стараюсь.
Ты не любишь долго держать жвачку во рту — она быстро становится безвкусной. Когда тебе надоедает жевать, ты складываешь белый комочек в ямочку под мочкой уха и носишь его там, пока тебе не предложат что-нибудь послаще.
Я заказываю комбо из пиццы и живу на ней три дня, не меняя тарелку. Открываю экзаменационные гугл-доки — режет глаза, как бывает, когда долго пялишься на непрогрузившиеся текстуры земли [снег] или клавиши фортепиано. Играем в ферму через Стим — мне обидно до слез, даже в этом я недостаточно хороша. Все же никто не справится с ролью твоей девушки вернее, чем ты сам.
Часами наблюдать через окно, как тонет во дворе оранжевый фонарь — вот, что у меня получается лучше всего.
Но все же она продолжает жить, хотя ей почти этого не хочется, и писать, хотя она почти того не может. Она вспоминает, как прошлой осенью из нее вытащили пакет крови, и тоскует по той полуобморочной легкости.
— Нам нужно поговорить.
Ты садишься за другой конец стола, и я протягиваю тебе телефон с сообщением в Ватсапе от моего психиатра.
— Теперь у того, что с тобой происходит, есть название — только и всего. Это не изменит моего отношения к тебе. Я всегда буду рядом.
Даже удивительно, насколько обманчиво-голубым может быть февральское небо. Наливаю стакан воды, чтобы запить таблетки, и засыпаю.
Я засыпаю.
Взбегаю на вершину оврага и падаю туда, где должна прорасти трава. Снег — разбитое стекло. Я принцесса в рубиновом сари: когда я ступаю по тропе, то и дело нагибаясь к земле и отводя гибкие ветви от лица, я танцую. Крыши и козырьки плачут. Это гимн безумной Мастани.
С каждым днем все труднее справляться с темнотой: приступы болезни, о которой я еще недавно только догадывалась, случаются все чаще. В пищащей тишине тонкая воображаемая нить натягивается до предела, а потом вдруг срывается и запутывается в комок, чтобы не порваться. Тело выворачивает наизнанку, ребра, тонкие, как облака, режут легкие. Я вытягиваюсь, падаю с кровати, катаюсь по полу, лезу на стену и рыдаю, рыдаю, рыдаю.
— Давай останемся друзьями.
Пусть твои волосы снова слишком короткие, пусть мы почти не сидим за столом и не разговариваем после постели — ты снова стоишь рядом, неуверенно положив руку мне на талию, и смотришь в объектив моей камеры. Твое лицо не отпечаталось на моментальном снимке: слишком много солнца.
По ночам я наматываю круги у пруда, оставляя за собой строчки слюны. Только здесь я могу позволить себе раскричаться. Я просто надеюсь, что скоро наступит тепло и мы с тобой снова встретимся в этом парке. Через четырнадцать миллионов лет.
В комнате уже нечем дышать: оба окна открываю нараспашку и сажусь читать на узкий подоконник. Наклониться — слишком страшно. Повязать на шею шарфик — слишком грязно. Нож, который я украла с папиного рабочего места, совсем затупился — ногти или зубы и то справились бы лучше.
Наливаю стакан воды, чтобы запить таблетки. Наливаю стакан воды, чтобы запить таблетки. Наливаю стакан воды, чтобы запить таблетки.
Мое тело такое тяжелое, что у меня рябит в глазах.
Будешь ли ты так же любить меня, если я потеряю голос? Если у меня не будет этих красивых пальцев? Будешь ли ты так же любить меня, если однажды я перестану быть человеком?
Трава выжжена дождем. У сосен крутится то ли туман, то ли дым: воздух густеет вокруг оставшихся отрывков листвы. Что-то страшное грядет, разрешение чего-то.
Бетонная свалка. Серые иголки прокладывают сестрам тропинку к замшелому каменному надгробию. Le chien a été écrasé par une voiture. Жутко. В день всех святых шепчут под инеем проволочные березы; за мокрыми досками спящих дач колдуньи собираются на шабаш. «Ой, я накликала беду, ты опять лежишь в бреду». Золотистые собаки жуют влажную землю. От девочки-волшебницы до ведьмы всего один шаг. Проливаю слезы над мертвыми рудбекиями. Угольная губка впитала соль вместе с дождем; нежно срываю ее и прижимаю к губам.
Из кислой ягодной пены рождается глаз на моей руке. Раковина в ванной, точно мумия, вся в бинтах. Я знаю, кто открыл мне его. Мягкий зрачок, бордово-черный, как вишневая косточка, смотрит на меня с осуждением. Неделя, вторая; склера ссыхается, сковыриваю с предплечья сухофрукт (я такое не люблю).
Возьми в ладошку третий глаз — кац!
Мороз мажет на щеках йодную сеточку. Лесная тропка гладкая, словно глотка; дрожу — резонирую. Через темно-синие шторки сосняка смотрю, как в глазок, в горящее окно на первом этаже. Мало ли в стране панелей таких бархатно-оранжевых картинок? Точно памятники Ленину, они есть в каждом городе — и все вселяют под ложечку одинаковое чувство:
В последнее время жутко хочется домой. Проблема в том, что это желание всегда со мной — куда бы ни пришла, куда бы ни приехала.
Больше я не включаю при тебе свои любимые песни. Не ношу сережки (тебе кажется, они портят впечатление от моего портрета) и каблуки — из-за роста. Я стараюсь вслушиваться в гаражный шум, который ты называешь музыкой, ужинать под американский Ютуб, читать книжки из программы. Я правда стараюсь.
Ты не любишь долго держать жвачку во рту — она быстро становится безвкусной. Когда тебе надоедает жевать, ты складываешь белый комочек в ямочку под мочкой уха и носишь его там, пока тебе не предложат что-нибудь послаще.
Я заказываю комбо из пиццы и живу на ней три дня, не меняя тарелку. Открываю экзаменационные гугл-доки — режет глаза, как бывает, когда долго пялишься на непрогрузившиеся текстуры земли [снег] или клавиши фортепиано. Играем в ферму через Стим — мне обидно до слез, даже в этом я недостаточно хороша. Все же никто не справится с ролью твоей девушки вернее, чем ты сам.
Часами наблюдать через окно, как тонет во дворе оранжевый фонарь — вот, что у меня получается лучше всего.
Но все же она продолжает жить, хотя ей почти этого не хочется, и писать, хотя она почти того не может. Она вспоминает, как прошлой осенью из нее вытащили пакет крови, и тоскует по той полуобморочной легкости.
— Нам нужно поговорить.
Ты садишься за другой конец стола, и я протягиваю тебе телефон с сообщением в Ватсапе от моего психиатра.
— Теперь у того, что с тобой происходит, есть название — только и всего. Это не изменит моего отношения к тебе. Я всегда буду рядом.
Даже удивительно, насколько обманчиво-голубым может быть февральское небо. Наливаю стакан воды, чтобы запить таблетки, и засыпаю.
Я засыпаю.
Взбегаю на вершину оврага и падаю туда, где должна прорасти трава. Снег — разбитое стекло. Я принцесса в рубиновом сари: когда я ступаю по тропе, то и дело нагибаясь к земле и отводя гибкие ветви от лица, я танцую. Крыши и козырьки плачут. Это гимн безумной Мастани.
С каждым днем все труднее справляться с темнотой: приступы болезни, о которой я еще недавно только догадывалась, случаются все чаще. В пищащей тишине тонкая воображаемая нить натягивается до предела, а потом вдруг срывается и запутывается в комок, чтобы не порваться. Тело выворачивает наизнанку, ребра, тонкие, как облака, режут легкие. Я вытягиваюсь, падаю с кровати, катаюсь по полу, лезу на стену и рыдаю, рыдаю, рыдаю.
— Давай останемся друзьями.
Пусть твои волосы снова слишком короткие, пусть мы почти не сидим за столом и не разговариваем после постели — ты снова стоишь рядом, неуверенно положив руку мне на талию, и смотришь в объектив моей камеры. Твое лицо не отпечаталось на моментальном снимке: слишком много солнца.
По ночам я наматываю круги у пруда, оставляя за собой строчки слюны. Только здесь я могу позволить себе раскричаться. Я просто надеюсь, что скоро наступит тепло и мы с тобой снова встретимся в этом парке. Через четырнадцать миллионов лет.
В комнате уже нечем дышать: оба окна открываю нараспашку и сажусь читать на узкий подоконник. Наклониться — слишком страшно. Повязать на шею шарфик — слишком грязно. Нож, который я украла с папиного рабочего места, совсем затупился — ногти или зубы и то справились бы лучше.
Наливаю стакан воды, чтобы запить таблетки. Наливаю стакан воды, чтобы запить таблетки. Наливаю стакан воды, чтобы запить таблетки.
Мое тело такое тяжелое, что у меня рябит в глазах.