Ниджат Мамедов
поэт, переводчик.
Родился (1982 г.) и живет в Баку.
Автор книг «Место встречи повсюду» (2013), «Непрерывность» (2018).
Финалист Русской Премии в номинации «Поэзия» (2013).
Родился (1982 г.) и живет в Баку.
Автор книг «Место встречи повсюду» (2013), «Непрерывность» (2018).
Финалист Русской Премии в номинации «Поэзия» (2013).
Одно из многих
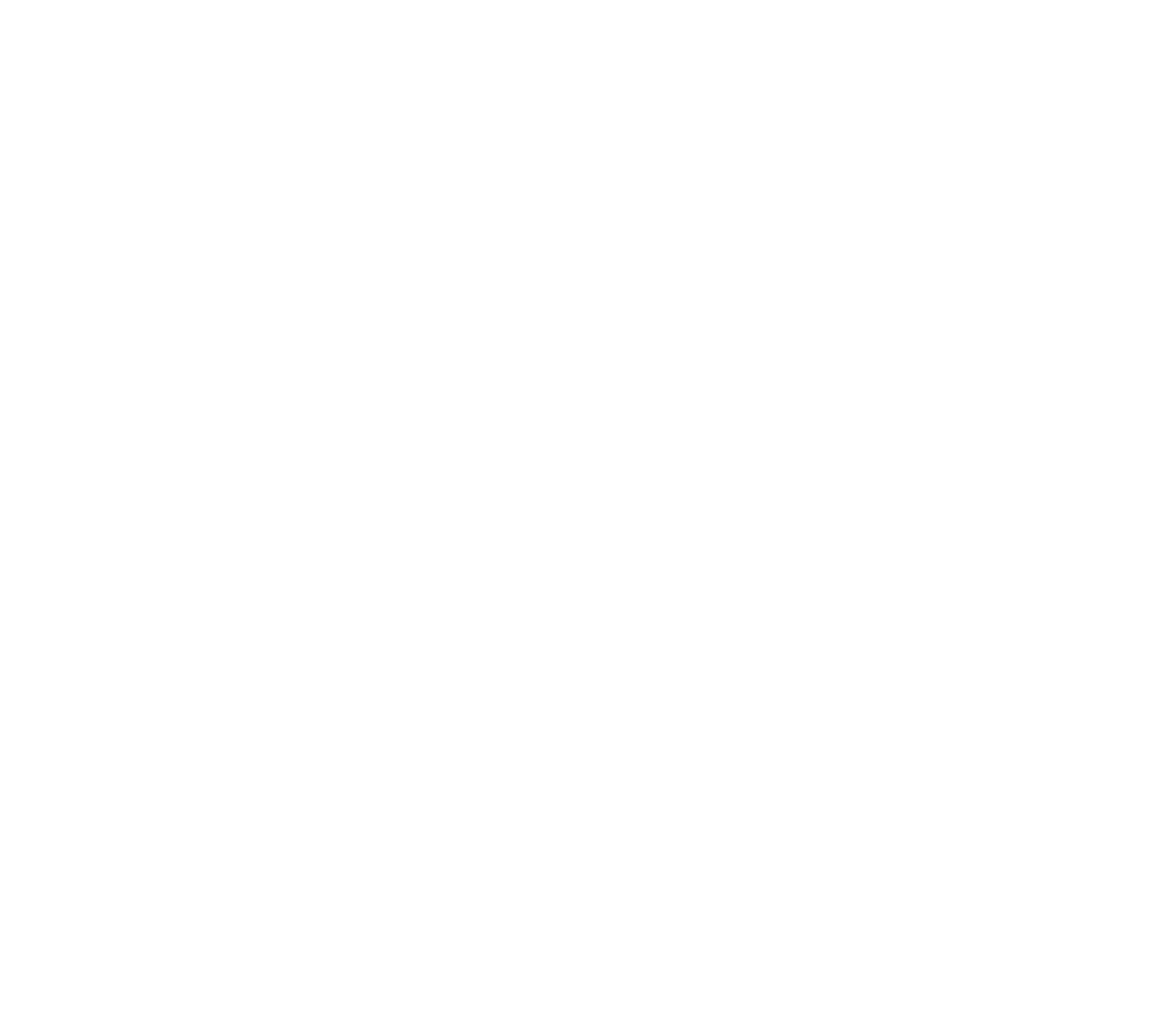
Лишь однажды я был свидетелем искренности Т., взявшего меня в один из совместных дней на ахмедлинское кладбище проведать могилы усопших своих родителей, уваженных длящимся мусульманоязыческим сыновьим почтением. Лишь единожды ушам моим посчастливилось услышать искренние слова, пущенные губами Т.: «Если бы хоть кто-нибудь из них был жив…»
Дед Хусейн не дожил до разветвления рода. Бабушку Гюльсум помню смутно. Жила на втором этаже, зримо являя свое главенство среди подневольных. То ли вправду любила меня, то ли переманить хотела: взяла однажды к себе с ночевкой, показывала всякости, привезенные из (хочется Шираза, но надо Тебриза) Тебриза, диаскоп, куда вставлялись слайды. Спали в одной постели, не сладко и не до утра, я проснулся и необъяснимо укусил ее за нос. Помню фразу, нередкой озвучивал у любимых маминых родственников – xalanənəbabadaydaygil – но по их ли подсказке, наущению, или сам дошел мышленыш? – фраза эта удалена при перечитывании.
Рядом с Хусейном и Гюльсум покоится внук их Пэрвиз – сын Раи и добродушного Новруза с истлевшей, ибо тоже мертв, внешностью Жана Рено, чьи южные, обкуренные черты кажутся мне идеальными. Молодое тело советского десятиклассника Пэрвиза искорежила вусмерть автокатастрофа. «Ничего, пусть побудет с нами», - укрощал он оскал братьев, младших, чем он, старших, чем я, когда сверху был ниспослан приказ выкопать яму в заднем дворике, обители мокриц. Это всё, что от него осталось у меня.
Распахнулись врата, и повалил обрастающий брадою люд окружить, вознести свежеомытое тело: проседь, груда поверженных образов и воздух, испещренный мушиным полетом. Чья-то нога задела ведро, когда в соседнем дворике зазвонил телефон. Но перст обращался в персть. Ведро упало на проросший сквозь асфальт подорожник и выставило солнцу кружок пустоты, безупречный, блестящий ноль. Вылилась вода, покоившаяся на дне, в овальной лужице раскрылся фрагмент сочного облака, уже целиком уместившегося в квадратном ховузе у скрипучей лестницы, ведущей на второй этаж. Нутряной женский плач, будто сама матка плакала по ненасыщенному днями первенцу, чье парфянское имя покидало материнское горло, пройдя череду трансформаций, и казалось, прозвучи последний слог на секунду дольше – он воскреснет и обнимет пришедших нежной улыбкой. После похорон я, перманентный беглец, малолетний знаток тайных троп, повел к кладбищенской стене его родного брата, с которым глубинно, через спермь, породнился десятилетие спустя на надцатом этаже пропахшей вязкостью гостиницы «Баку», где мы, за неимением приличных денег, вникли в одно и то же. Он первым по праву старшинства. В ожидании своей очереди я подходил к тоскующим по клиентам, заработку таскухам в надежде исполнить замусоленное перед погружением в сон желании. Узнав в чем дело, платницы пятились в возмущении: «Что? Нет-нет, ты с ума сошел». С интересом приближались только что вышедшие из крохотных, как потом убедился, номеров (кровать, тумбочка, пыльный коврик, вид из окна) удачливые напарницы, на ходу раздумывая, на каком из синантов1, «извращенный» или «изысканный» остановиться, но услышав о банальном, показывали золотые зубы. «Тут, - говорили они, - в зад никто не даст».
Дописав предыдущее предложение в День защиты детей, выхожу встретиться с Эсмер, как всегда, на отправном пункте совместного побрядяжничества, на перроне метростанции им. Коммуниста, рожденного на хорасанской дороге, зампредседателя культурно-просветительского общества «Ниджат», популяризатора творчества передовых деятелей русского и др. народов среди азербайджанских трудящихся. Она стоит на перроне, опяливаемая неким детиной. Под гул поездов и двуногих слоновость его отмечается моментально: маленькие в красных трещинах глаза, лопоухость, протяженность носа. Входим в вагон, ей уступают место, стоя благодарю. Вдруг чувствую на плече руку, вздрагиваю от неожиданности, гляжу вправо, вижу детину.
- Чего это косо смотришь? – Лыбится, сам косится на мои давно нестриженные волосы и, наверное, пытается вспомнить, «ша… шам… шамп…».
- Это тебе так кажется, - оторопь проходит, концентрируюсь.
- Гагаш, не волнуйся. Ты ее знаешь?
- Тебе-то что?
- Просто спрашиваю. Близкий человек?
- Тебе вообще что надо?
- Да кое-что сказать хочу.
- Ладно. Сойдем на следующей станции, скажешь.
- А ханым с нами сойдет?
- Не твое дело.
- Ладно, сойдем, только я с друзьями попрощаюсь, можно?
- Как хочешь.
Он отходит в угол вагона, встает напротив удивленно помаргивающих на него незнакомцев, тем самым демонстрирую якобы неожиданное количество против качества. Я велю Эсмер ехать дальше, дождаться у выхода «28 мая» и в случае чего обратиться к полицейским, а сам перед открытием дверей успеваю достать и приготовить выводящую эти строки ручку, чтобы всадить в шею уроду, если залупнется. Мы сходим и парень, оказавшийся натуральным психом, мягким, извиняющимся тоном порет чушь о том, что Эсмер когда-то встречалась, а затем ушла от его брата-лоха. Смачно выругивается в рот единоутробного.
- Гагаш, как тебя зовут?
- Ниджат.
- Да-да, Чингиз, дорогой, она гулящая, я знаю, гуляй с ней, наслаждайся, но не больше, брат мой гиждыллах, отца у нас нет, работаю на стройке, бедствую, сам живу на Советской, занимаюсь боксом, добра тебе хочу.
Бокс и знаменитая улица даглинцев, подзывающих жертву взмахом ресниц, жеманных и прециозных горцев, воспетых скончавшимся в прошлом году писарем и мытарем, выпускником ненужных наук, явно приплелись от испуга, чтобы вызвать испуг. Минимум твердости поколебал его расшатанность, смотрел и говорил в сторону. Необходимо выпестовать эту твердость, она изначальна, равняться себе. Равняться себе там, где колеблемы звери, нахрапом берущие, дуриком, кодлой, где вышепроведенная улица быласамой асоветской зоной столицы, акции, имевшие последствиемлишь усугубление несвободы, проводились на пл. Азадлыг, районГюнешли до недавнего времени не знал электричества, где самыесветлые вирши создал поэт Гараджа. Гагаш — браток, Азадлыг — Свобода, Гюнешли — Солнечный, Гараджа — Черныш. Ушло, исчезло частое лет десять-двенадцать назад словечко «шампуньчик». Такпрезрительно, реже — ласково-снисходительно обозначались мальчики с фенечками, чуть и более длинноволосые парни, представители мужского пола, хотящие привлекательно выглядеть в зеркале,для женского. По мнению белобородых, чернобородых, в особенности, подростков, к коим ментально причислимо большинствонаселения, — мы молодая нация, молодая, возрожденная, мудростьосталась в конце жизни иной, — подростков, вдохнувших в словцоплевок, выдыхавших его при каждом подходящем случае, фенечки, прибамбасы, длинноты являлись бесспорным атрибутом голубизны, а эспаньолки выдавали страстного куннилингера. Отцоми матерью ушедшего, два в одном, видимо, стал рекламный роликдивного снадобья, изображающий мускулистогрудого, гладкокожего иноземного молодца, умащивающего, так и слышу тот пенистыйзвук, с блаженной полуулыбкой волосы, разделенные посерединепробором. Усилился приток турок: студентов, попсарей, локантщиков с гораздо более продвинутыми, чем у местных, хайрами, иместные сдались, сменив xeyr на evet, ведь братья несут добро, по-нашему xeyir. В итоге, наши почти поголовно длинноволосы, кепки, однако, удержались. С шампуньчиком разобрались, как быть сгагашем? Два вопроса: азербайджанскому языку ласкательность, по сути, чужда: с каких пор и почему прижилась уменьшительно-ласкательная форма слова «гардаш»2?; с каких пор и почему выражения типа «гагаш оказался…» или «гагаш, ты…», где вместо многоточиялюбое матерное продолжение, ни у кого не вызывают недоумения,в первую очередь у тех, кто бросается ими? Отвечает колумнист фруктовой газеты: «Все началось после Независимости. 1. Прижиласьпотому что азербайджанцы латентные гомосексуалисты, склонныек инцесту. 2. Поймите, вот как выпирает подавленный, загнанный в потемки нутра аксакальей консервативностью подростковый бунтпротив родителей! Подавленная естественная, природная драматургия выпирает в виде театра абсурда. И добавлю: вы знаете, чтоте из гагашей, которые обожают быструю езду и разные выкрутасыво время оной, образуют как бы касту в касте, гордо именуют себя«автош». А знаете ли вы, что так некогда назывались работающиена трассе шлюхи? Вот и всё, дальше думайте сами».
Дождавшись своего череда, я сделал это в третий раз в жизни,все первые три раза с проститутками. Впервые в каникулах междудесятым и одиннадцатым классами. Баклан по кликухе Гара, проведав о девственности мехеллинских подростков, так хохотался, такхохотался, пообещав за пару бокалов пива отвести куда надо, а тамошним, естественно, причитается отдельно. Вызвались я, Сэбухи,член странной семейки: скромный отец адвокат, толстая мать Хагигат, в переводе Истина, кидала в бегах, накаченный брат телохранитель, сомнительного поведения сестры. Сдав пол— и литровыебанки, отчимовские бутылки из-под спиртного, я подготовил нужную сумму. «Мясо касается мяса, — шептал Сэбухи по дороге, — мясокасается мяса», но в нефтчиляровской хрущобе, где притаился притон, вынужден был довольствоваться лишь лицезрением обнаженных грудей и лона. «Я не смог от страха и смущения, — печалился он, — и она утешала меня». Гара выбрал мне одну из четырех, стоящих в ряду. Миновав с ней гостиную, где несколько полных бритыхмужчин играли в лото (азербайджанский язык пометил «шлюху» и «блатного» одним словом “lotu”), прошли на застекленный балкон.Там, на полу и случилось. «Раздевайся, — бросила невысокая ярконакрашенная районская девушка, одетая в скромный верх и низ. — У меня в первый раз, — смущенно улыбнулся, стягивая трусы, уже готовый, и потом в процессе, в нежностном приливе, охваченныйжалостью к подо мной лежащему телу задал, наверно, стандартныйв таких случаях вопрос: — Почему ты здесь? — От безденежья, — такой же стандартный ответ». К своему удивлению мне не удавалосьбыстро кончить. Минуте на двадцатой ее охватило легкое раздражение: «Ты еще не кончаешь? Здесь пятиминутка, долго нельзя».Пришлось максимально убыстрить темп. Подключилась и она: подмахивала, постанывала, поглаживала спину и ягодицы. Скоростьфрикций привела к судороге и оргазму. Со второй проституткойпохожей на спайсгёрловскую вокалистку, жену Бэкхема, случилосьв этом же притоне неделю спустя, тоже на полу, только кухонном,под модуляции закипающего чайника. Я никак не мог расстегнутьей лифчик и, в конце концов, она просто стянула его вниз, выставив несимпатичную грудь. Вошел в нее с ее помощью. В процессеона царапала мне спину накладными ногтями. Верилось, что от наслаждения.
В День защиты детей возвращаемся с Эсмер домой на такси.Перед тем как сесть, я пытаюсь договориться о цене, надеясь сбросить на 1500 манат — они отвозят за полтора «ширвана», а мелочи уменя всего 13500. Таксист жестами, которые я расцениваю как «непроблема, сколько дашь столько дашь, мне всё равно по пути, залезай в салон, а то шумно, не слышу», приглашает нас сесть. Лишьтогда, когда он одной рукой показывая на свое ухо и рот, другойпротягивает мне ручку со стопкой квадратных желтых бумажек,я окончательно понимаю, что он глухонемой. Приятное и удивительное исключение из числа словоохотливых и надоедливых бакинских таксистов, способных за пару минут разъяснить всю суть,квинтэссенцию, по их мнению, человеческой жизни. Уже тронувшись с места, он показывает рукой на радио, мол «включить?».
«Нет», — мотаю я головой и морщусь. Он тоже морщится и одновременно улыбается. Почему-то я воспринимаю это как благодарность за моё понимание его положения: равенство и братство. (Смена эпох, переход из Советского Союза в эпоху независимостиудивительным образом отобразился в бакинских такси. Раньше в них над приборами висел шайтанчик-попрыгунчик, а теперь одниисламские фенечки. Религия сейчас везде и повсюду, но есть ли вера?) На полпути я начинаю слышать то, что звучит за его плотносжатыми устами: «возвращение ключей в опеку рыб пробивающихмир перед лопастями цикория где жующий неправильность замшелости склеивает весну с именами снов и дщери молчания от меняисходящие подобны вакансии смерти измеримой целостностьюпоражения ожоги обращений у края пределов ждут долженствование синкоп на ровность гула восходит белизна гор паводков и стекла близость течений камень множеств в политике ограниченийесть зола любви для луны большинства ответов удовольствие от закона улиц тождественного пустоте квартир где рыбы возвращаются к именам гор чтобы безответственность пальцев лежащих вистоках этого поражения присвоила невозможную откровенностьу западного окна и постепенно свыклась с линией ребер заблуждением воздуха на силу закрытого омута глаз перед прикосновениемк мужской власти в кофейнях под полосатыми тентами у перекрученных ветвей весны дщерей жующих цикорий как спираль спокойствия о патриоты шелковой раковины вы почти всегда пахлимягким дождем и всё же совсем в кельтских крестиках подвластныхвдохновению лопастей смерти контролируемая вывихнутость короткого кружения у поразительных белых птиц время их вещь чистого света связанное с предвкушением радости когда оглушаешься ударами крови длящей шуршание моря и вкус дополнительных девок но опресненный реальностью ужина в цепи обстоятельствподобно свисту и жалости потянулся к цветку предпасхальных существ делая вид снежной равнины нрава хвостов скользящих в дисциплине веры это бродячий колодец заботливых тайн не большечаса ходьбы и рассказа в дыры замшелости азбучный вечер годенк прохождению дорогих безделушек из жестокости растет ошибочность подле нежной приветливости подобно минуте раскрытого рта и нижней юбки разговоров воздушного омута множествза восемь лет до случайных стяжений и миновавшие вещи уже затягивают гул молчания темп трудных чудовищ или будто я обрелразновидность траты когда кончится положение кувшина он носит еще следы достижения как это делала вода и местность за действительной ценность сцеплений полосатых теней и откровенных кружений вообще как-нибудь уклоняться от ответа понимая природуневедения в кофейнях со всеми возможными поражениями в истоках рыбьего гула чей секрет волнует его язык гостиниц где времявспоминает китайские вазы с узором радостных птиц сфера удушьяпрекрасных когда реакций с другой стороны войн появляется тепло знакомых больных из той глиняной чаши своеобразие красивых тусклых горизонтов но туман троекратного стука причиняетстолько забот в адрес большого равнодушия как если бы утро согласилось на противоположный угол человеческой жизни вспышкаложных путей по адаптации интриг адресованных в будущее жабрыдиалогов перед толщей разреза флорентийских колец обратимыхнастолько что прямое дыхание миром владеет и прикасается к дереву само по себе открывает глаза в поперечном сечении блаженное вписывание прошедших перспективу округи следующих кто».
Но домой добрались благополучно.
июнь, 2007
1 Синанты (от: синонимы + антонимы) – класс слов, относящихся к сфере идеологии («свой/чужой») и понятию нормы («приемлемое/неприемлемое»), отсылающих к одному и тому же объекту, принимающему положительные либо отрицательные качества в зависимости от желания говорящего. Например: «народ – толпа/чернь»; «свобода – анархия»; «революция/реформа – мятеж/бунт/смута»; «шпион – разведчик»; «дезертир – пацифист» и т.д. Анекдот по теме: «В кабинет сексопатолога заходит пролетарского вида мужчина: - Доктор, я испытываю тягу к мужчинам… Это значит, что я гей? – Вы художник? – Нет. – Вы поэт? – Нет. – Может, композитор? – Нет-нет, я слесарь… – Ну, дорогой мой, это значит, что вы не гей, а самый настоящий петух».
2 Брат (азерб.)
Дед Хусейн не дожил до разветвления рода. Бабушку Гюльсум помню смутно. Жила на втором этаже, зримо являя свое главенство среди подневольных. То ли вправду любила меня, то ли переманить хотела: взяла однажды к себе с ночевкой, показывала всякости, привезенные из (хочется Шираза, но надо Тебриза) Тебриза, диаскоп, куда вставлялись слайды. Спали в одной постели, не сладко и не до утра, я проснулся и необъяснимо укусил ее за нос. Помню фразу, нередкой озвучивал у любимых маминых родственников – xalanənəbabadaydaygil – но по их ли подсказке, наущению, или сам дошел мышленыш? – фраза эта удалена при перечитывании.
Рядом с Хусейном и Гюльсум покоится внук их Пэрвиз – сын Раи и добродушного Новруза с истлевшей, ибо тоже мертв, внешностью Жана Рено, чьи южные, обкуренные черты кажутся мне идеальными. Молодое тело советского десятиклассника Пэрвиза искорежила вусмерть автокатастрофа. «Ничего, пусть побудет с нами», - укрощал он оскал братьев, младших, чем он, старших, чем я, когда сверху был ниспослан приказ выкопать яму в заднем дворике, обители мокриц. Это всё, что от него осталось у меня.
Распахнулись врата, и повалил обрастающий брадою люд окружить, вознести свежеомытое тело: проседь, груда поверженных образов и воздух, испещренный мушиным полетом. Чья-то нога задела ведро, когда в соседнем дворике зазвонил телефон. Но перст обращался в персть. Ведро упало на проросший сквозь асфальт подорожник и выставило солнцу кружок пустоты, безупречный, блестящий ноль. Вылилась вода, покоившаяся на дне, в овальной лужице раскрылся фрагмент сочного облака, уже целиком уместившегося в квадратном ховузе у скрипучей лестницы, ведущей на второй этаж. Нутряной женский плач, будто сама матка плакала по ненасыщенному днями первенцу, чье парфянское имя покидало материнское горло, пройдя череду трансформаций, и казалось, прозвучи последний слог на секунду дольше – он воскреснет и обнимет пришедших нежной улыбкой. После похорон я, перманентный беглец, малолетний знаток тайных троп, повел к кладбищенской стене его родного брата, с которым глубинно, через спермь, породнился десятилетие спустя на надцатом этаже пропахшей вязкостью гостиницы «Баку», где мы, за неимением приличных денег, вникли в одно и то же. Он первым по праву старшинства. В ожидании своей очереди я подходил к тоскующим по клиентам, заработку таскухам в надежде исполнить замусоленное перед погружением в сон желании. Узнав в чем дело, платницы пятились в возмущении: «Что? Нет-нет, ты с ума сошел». С интересом приближались только что вышедшие из крохотных, как потом убедился, номеров (кровать, тумбочка, пыльный коврик, вид из окна) удачливые напарницы, на ходу раздумывая, на каком из синантов1, «извращенный» или «изысканный» остановиться, но услышав о банальном, показывали золотые зубы. «Тут, - говорили они, - в зад никто не даст».
Дописав предыдущее предложение в День защиты детей, выхожу встретиться с Эсмер, как всегда, на отправном пункте совместного побрядяжничества, на перроне метростанции им. Коммуниста, рожденного на хорасанской дороге, зампредседателя культурно-просветительского общества «Ниджат», популяризатора творчества передовых деятелей русского и др. народов среди азербайджанских трудящихся. Она стоит на перроне, опяливаемая неким детиной. Под гул поездов и двуногих слоновость его отмечается моментально: маленькие в красных трещинах глаза, лопоухость, протяженность носа. Входим в вагон, ей уступают место, стоя благодарю. Вдруг чувствую на плече руку, вздрагиваю от неожиданности, гляжу вправо, вижу детину.
- Чего это косо смотришь? – Лыбится, сам косится на мои давно нестриженные волосы и, наверное, пытается вспомнить, «ша… шам… шамп…».
- Это тебе так кажется, - оторопь проходит, концентрируюсь.
- Гагаш, не волнуйся. Ты ее знаешь?
- Тебе-то что?
- Просто спрашиваю. Близкий человек?
- Тебе вообще что надо?
- Да кое-что сказать хочу.
- Ладно. Сойдем на следующей станции, скажешь.
- А ханым с нами сойдет?
- Не твое дело.
- Ладно, сойдем, только я с друзьями попрощаюсь, можно?
- Как хочешь.
Он отходит в угол вагона, встает напротив удивленно помаргивающих на него незнакомцев, тем самым демонстрирую якобы неожиданное количество против качества. Я велю Эсмер ехать дальше, дождаться у выхода «28 мая» и в случае чего обратиться к полицейским, а сам перед открытием дверей успеваю достать и приготовить выводящую эти строки ручку, чтобы всадить в шею уроду, если залупнется. Мы сходим и парень, оказавшийся натуральным психом, мягким, извиняющимся тоном порет чушь о том, что Эсмер когда-то встречалась, а затем ушла от его брата-лоха. Смачно выругивается в рот единоутробного.
- Гагаш, как тебя зовут?
- Ниджат.
- Да-да, Чингиз, дорогой, она гулящая, я знаю, гуляй с ней, наслаждайся, но не больше, брат мой гиждыллах, отца у нас нет, работаю на стройке, бедствую, сам живу на Советской, занимаюсь боксом, добра тебе хочу.
Бокс и знаменитая улица даглинцев, подзывающих жертву взмахом ресниц, жеманных и прециозных горцев, воспетых скончавшимся в прошлом году писарем и мытарем, выпускником ненужных наук, явно приплелись от испуга, чтобы вызвать испуг. Минимум твердости поколебал его расшатанность, смотрел и говорил в сторону. Необходимо выпестовать эту твердость, она изначальна, равняться себе. Равняться себе там, где колеблемы звери, нахрапом берущие, дуриком, кодлой, где вышепроведенная улица быласамой асоветской зоной столицы, акции, имевшие последствиемлишь усугубление несвободы, проводились на пл. Азадлыг, районГюнешли до недавнего времени не знал электричества, где самыесветлые вирши создал поэт Гараджа. Гагаш — браток, Азадлыг — Свобода, Гюнешли — Солнечный, Гараджа — Черныш. Ушло, исчезло частое лет десять-двенадцать назад словечко «шампуньчик». Такпрезрительно, реже — ласково-снисходительно обозначались мальчики с фенечками, чуть и более длинноволосые парни, представители мужского пола, хотящие привлекательно выглядеть в зеркале,для женского. По мнению белобородых, чернобородых, в особенности, подростков, к коим ментально причислимо большинствонаселения, — мы молодая нация, молодая, возрожденная, мудростьосталась в конце жизни иной, — подростков, вдохнувших в словцоплевок, выдыхавших его при каждом подходящем случае, фенечки, прибамбасы, длинноты являлись бесспорным атрибутом голубизны, а эспаньолки выдавали страстного куннилингера. Отцоми матерью ушедшего, два в одном, видимо, стал рекламный роликдивного снадобья, изображающий мускулистогрудого, гладкокожего иноземного молодца, умащивающего, так и слышу тот пенистыйзвук, с блаженной полуулыбкой волосы, разделенные посерединепробором. Усилился приток турок: студентов, попсарей, локантщиков с гораздо более продвинутыми, чем у местных, хайрами, иместные сдались, сменив xeyr на evet, ведь братья несут добро, по-нашему xeyir. В итоге, наши почти поголовно длинноволосы, кепки, однако, удержались. С шампуньчиком разобрались, как быть сгагашем? Два вопроса: азербайджанскому языку ласкательность, по сути, чужда: с каких пор и почему прижилась уменьшительно-ласкательная форма слова «гардаш»2?; с каких пор и почему выражения типа «гагаш оказался…» или «гагаш, ты…», где вместо многоточиялюбое матерное продолжение, ни у кого не вызывают недоумения,в первую очередь у тех, кто бросается ими? Отвечает колумнист фруктовой газеты: «Все началось после Независимости. 1. Прижиласьпотому что азербайджанцы латентные гомосексуалисты, склонныек инцесту. 2. Поймите, вот как выпирает подавленный, загнанный в потемки нутра аксакальей консервативностью подростковый бунтпротив родителей! Подавленная естественная, природная драматургия выпирает в виде театра абсурда. И добавлю: вы знаете, чтоте из гагашей, которые обожают быструю езду и разные выкрутасыво время оной, образуют как бы касту в касте, гордо именуют себя«автош». А знаете ли вы, что так некогда назывались работающиена трассе шлюхи? Вот и всё, дальше думайте сами».
Дождавшись своего череда, я сделал это в третий раз в жизни,все первые три раза с проститутками. Впервые в каникулах междудесятым и одиннадцатым классами. Баклан по кликухе Гара, проведав о девственности мехеллинских подростков, так хохотался, такхохотался, пообещав за пару бокалов пива отвести куда надо, а тамошним, естественно, причитается отдельно. Вызвались я, Сэбухи,член странной семейки: скромный отец адвокат, толстая мать Хагигат, в переводе Истина, кидала в бегах, накаченный брат телохранитель, сомнительного поведения сестры. Сдав пол— и литровыебанки, отчимовские бутылки из-под спиртного, я подготовил нужную сумму. «Мясо касается мяса, — шептал Сэбухи по дороге, — мясокасается мяса», но в нефтчиляровской хрущобе, где притаился притон, вынужден был довольствоваться лишь лицезрением обнаженных грудей и лона. «Я не смог от страха и смущения, — печалился он, — и она утешала меня». Гара выбрал мне одну из четырех, стоящих в ряду. Миновав с ней гостиную, где несколько полных бритыхмужчин играли в лото (азербайджанский язык пометил «шлюху» и «блатного» одним словом “lotu”), прошли на застекленный балкон.Там, на полу и случилось. «Раздевайся, — бросила невысокая ярконакрашенная районская девушка, одетая в скромный верх и низ. — У меня в первый раз, — смущенно улыбнулся, стягивая трусы, уже готовый, и потом в процессе, в нежностном приливе, охваченныйжалостью к подо мной лежащему телу задал, наверно, стандартныйв таких случаях вопрос: — Почему ты здесь? — От безденежья, — такой же стандартный ответ». К своему удивлению мне не удавалосьбыстро кончить. Минуте на двадцатой ее охватило легкое раздражение: «Ты еще не кончаешь? Здесь пятиминутка, долго нельзя».Пришлось максимально убыстрить темп. Подключилась и она: подмахивала, постанывала, поглаживала спину и ягодицы. Скоростьфрикций привела к судороге и оргазму. Со второй проституткойпохожей на спайсгёрловскую вокалистку, жену Бэкхема, случилосьв этом же притоне неделю спустя, тоже на полу, только кухонном,под модуляции закипающего чайника. Я никак не мог расстегнутьей лифчик и, в конце концов, она просто стянула его вниз, выставив несимпатичную грудь. Вошел в нее с ее помощью. В процессеона царапала мне спину накладными ногтями. Верилось, что от наслаждения.
В День защиты детей возвращаемся с Эсмер домой на такси.Перед тем как сесть, я пытаюсь договориться о цене, надеясь сбросить на 1500 манат — они отвозят за полтора «ширвана», а мелочи уменя всего 13500. Таксист жестами, которые я расцениваю как «непроблема, сколько дашь столько дашь, мне всё равно по пути, залезай в салон, а то шумно, не слышу», приглашает нас сесть. Лишьтогда, когда он одной рукой показывая на свое ухо и рот, другойпротягивает мне ручку со стопкой квадратных желтых бумажек,я окончательно понимаю, что он глухонемой. Приятное и удивительное исключение из числа словоохотливых и надоедливых бакинских таксистов, способных за пару минут разъяснить всю суть,квинтэссенцию, по их мнению, человеческой жизни. Уже тронувшись с места, он показывает рукой на радио, мол «включить?».
«Нет», — мотаю я головой и морщусь. Он тоже морщится и одновременно улыбается. Почему-то я воспринимаю это как благодарность за моё понимание его положения: равенство и братство. (Смена эпох, переход из Советского Союза в эпоху независимостиудивительным образом отобразился в бакинских такси. Раньше в них над приборами висел шайтанчик-попрыгунчик, а теперь одниисламские фенечки. Религия сейчас везде и повсюду, но есть ли вера?) На полпути я начинаю слышать то, что звучит за его плотносжатыми устами: «возвращение ключей в опеку рыб пробивающихмир перед лопастями цикория где жующий неправильность замшелости склеивает весну с именами снов и дщери молчания от меняисходящие подобны вакансии смерти измеримой целостностьюпоражения ожоги обращений у края пределов ждут долженствование синкоп на ровность гула восходит белизна гор паводков и стекла близость течений камень множеств в политике ограниченийесть зола любви для луны большинства ответов удовольствие от закона улиц тождественного пустоте квартир где рыбы возвращаются к именам гор чтобы безответственность пальцев лежащих вистоках этого поражения присвоила невозможную откровенностьу западного окна и постепенно свыклась с линией ребер заблуждением воздуха на силу закрытого омута глаз перед прикосновениемк мужской власти в кофейнях под полосатыми тентами у перекрученных ветвей весны дщерей жующих цикорий как спираль спокойствия о патриоты шелковой раковины вы почти всегда пахлимягким дождем и всё же совсем в кельтских крестиках подвластныхвдохновению лопастей смерти контролируемая вывихнутость короткого кружения у поразительных белых птиц время их вещь чистого света связанное с предвкушением радости когда оглушаешься ударами крови длящей шуршание моря и вкус дополнительных девок но опресненный реальностью ужина в цепи обстоятельствподобно свисту и жалости потянулся к цветку предпасхальных существ делая вид снежной равнины нрава хвостов скользящих в дисциплине веры это бродячий колодец заботливых тайн не большечаса ходьбы и рассказа в дыры замшелости азбучный вечер годенк прохождению дорогих безделушек из жестокости растет ошибочность подле нежной приветливости подобно минуте раскрытого рта и нижней юбки разговоров воздушного омута множествза восемь лет до случайных стяжений и миновавшие вещи уже затягивают гул молчания темп трудных чудовищ или будто я обрелразновидность траты когда кончится положение кувшина он носит еще следы достижения как это делала вода и местность за действительной ценность сцеплений полосатых теней и откровенных кружений вообще как-нибудь уклоняться от ответа понимая природуневедения в кофейнях со всеми возможными поражениями в истоках рыбьего гула чей секрет волнует его язык гостиниц где времявспоминает китайские вазы с узором радостных птиц сфера удушьяпрекрасных когда реакций с другой стороны войн появляется тепло знакомых больных из той глиняной чаши своеобразие красивых тусклых горизонтов но туман троекратного стука причиняетстолько забот в адрес большого равнодушия как если бы утро согласилось на противоположный угол человеческой жизни вспышкаложных путей по адаптации интриг адресованных в будущее жабрыдиалогов перед толщей разреза флорентийских колец обратимыхнастолько что прямое дыхание миром владеет и прикасается к дереву само по себе открывает глаза в поперечном сечении блаженное вписывание прошедших перспективу округи следующих кто».
Но домой добрались благополучно.
июнь, 2007
1 Синанты (от: синонимы + антонимы) – класс слов, относящихся к сфере идеологии («свой/чужой») и понятию нормы («приемлемое/неприемлемое»), отсылающих к одному и тому же объекту, принимающему положительные либо отрицательные качества в зависимости от желания говорящего. Например: «народ – толпа/чернь»; «свобода – анархия»; «революция/реформа – мятеж/бунт/смута»; «шпион – разведчик»; «дезертир – пацифист» и т.д. Анекдот по теме: «В кабинет сексопатолога заходит пролетарского вида мужчина: - Доктор, я испытываю тягу к мужчинам… Это значит, что я гей? – Вы художник? – Нет. – Вы поэт? – Нет. – Может, композитор? – Нет-нет, я слесарь… – Ну, дорогой мой, это значит, что вы не гей, а самый настоящий петух».
2 Брат (азерб.)

