Савелий Голоденко
Я попросил друзей назвать несколько фактов обо мне, и вот, что они сообщили: Савелий неровно дышит к рыбалке в пустом аквариуме, он часто использует в речи слова с неполногласием, утверждает, что живёт в гнезде маленьких птичек колибри, потому что в его квартире слишком шумно, а ещё Савелий умеет играть на флейте, изготовленной из его собственной бедренной кости.
«Палехские шкатулки»
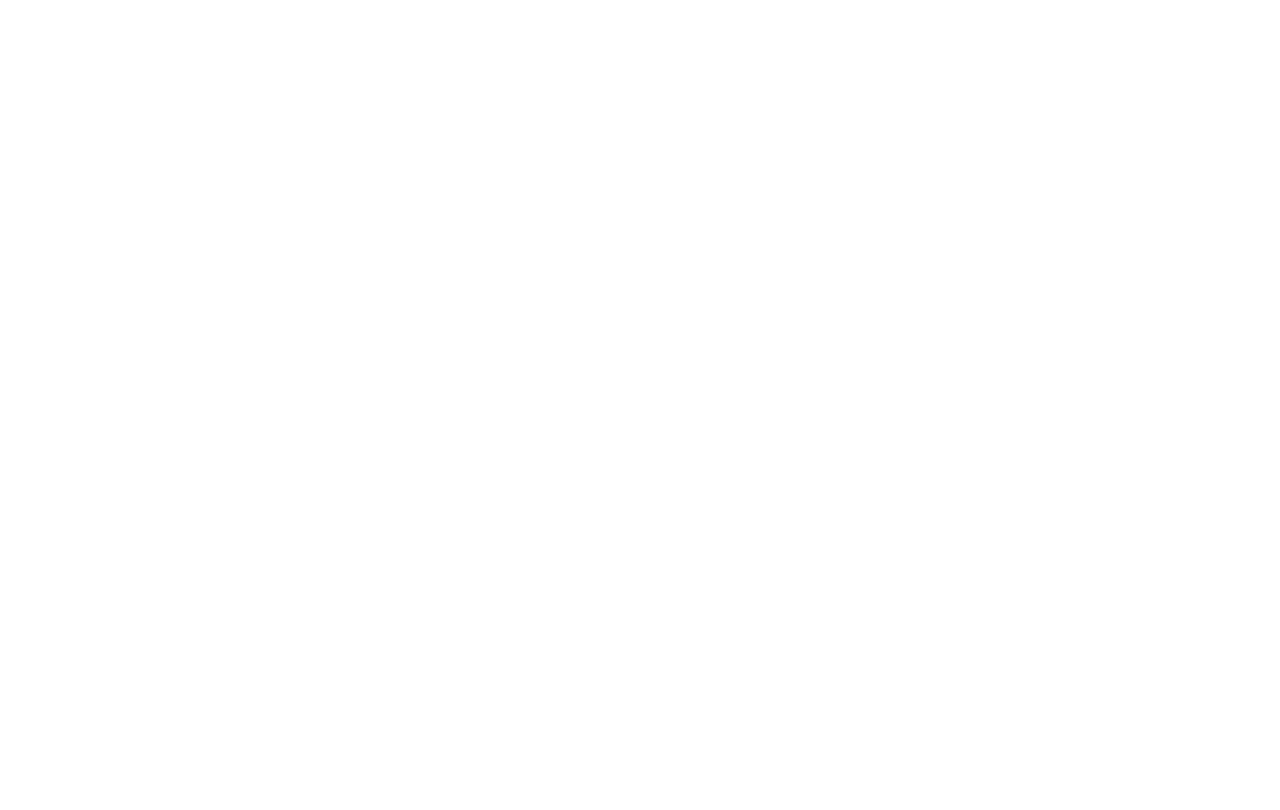
…Никакая страшная ночь не могла быть чернее этого
лакированного мифа, который, кажется, всё проглотил
в своем чреве… Видел коробочку с сидящей женщиной,
продавщицей сигарет. Рядом с ней – мальчик, просит у
неё сигарету. И всё это на фоне чернейшей ночи…
Это советская мадонна с сигаретами.
В. Беньямин
Свет преломился в голубом стёклышке. Объекты, которые хранило пространство, окрасились в чуждый им цвет – морозный и хрупкий, как тонкая пластинка льда. Дёмин плавно перемещал руку с витражным осколком слева направо: диван неуравновешенно-жёлтого цвета позеленел до тошноты, круглый дорожный знак за окном стал вкусным, как спелая слива, а торшер начал рассеивать потустороннюю, мистическую энергию по всей комнате.
С улицы проникал далёкий шум стройки, профильтрованный воздухом и окружающими объектами, отчего в остатке имелся только невнятный гул, тоже мистический, как показалось Дёмину. Он – один в квартире, где только вчера в гробу лежала покойница.
Надо же, люди подходят к страшной вещи, стоящей на нескольких табуретах посреди комнаты, наклоняются к самому восковому лицу, лезут целоваться к этому предмету, отдалённо напоминающему бабушку. Мужчина, но одновременно и мальчик, старается впечататься в угол, как ему кажется, самый отдалённый от Страшной Вещи в центре пространства, составляющей Омфалос всей одинокой и совершившей паломничество к этому месту Земли.
Дёмин то и дело натыкался на завешенные белыми полотенцами зеркала, напоминавшие взлетевших, но застывших в полёте птиц. Мгновениями нарастало чувство тревоги о том, что эти полотенца сорвутся с рам, подобно хичкоковским птицам, и обнажат подпорченную амальгаму, в которой отобразится оплывший парафин бабушкиного лица. Однако в квартире застыли не только вафельные хрустящие чайки (больше сходства угадывалось именно с ними). Всё погрузилось в каталепсический сон в знак скорби по усопшей хозяйке, без которой слово «движение» навек умерло в этом жилище. Внуку же ничего не оставалось, кроме блуждания по лабиринтам своих детских воспоминаний. Он с боязливым трепетом открывал шкатулки событий – почему-то именно лакированные палехские ящички – и упивался не физической утратой близкого человека, а ощущением атрофирования части себя, о которой Дёмин на протяжении долгих лет не мыслил.
Первая шкатулка отдала ему осколок морозного витража: маленький Шурочка – глаза его добрые и светятся янтарем – ставит ногу в расшнурованном ботинке на руины кирпичной стены, некогда бывшей чем-то цельным. И в то время он тоже думал, что был чем-то цельным. Шурочка, как настоящий археолог, юный Индиана Джонс, жаждущий обнаружить Ковчег Завета, выуживает из-под обломков балок фрагмент витражного стекла и направляет его на жаркое июльское солнце…
Вторая шкатулка открыла ему мимолётное предчувствие праздника, когда Дёмин выхватил из обстановки нелепые, но оттого и памятные детали: то были порождённые советским китчем фарфоровые рыбы, стоящие на хвостах в позе вздыбившихся коней, а также графины, одетые в вязаные чехлы и мимикрирующие под пуделей. Эти вещи почти никогда не ставили на праздничный стол, но у Дёмина они накрепко стали ассоциироваться с Новым Годом и боем курантов.
В одном из шкафов он обнаружил диапроектор – родственник волшебного фонаря. Сколько интереса когда-то было для маленького Шурочки в рассматривании фотоплёнок со смешными негативами. Запечатлённые на снимках люди имели инопланетную внешность: зелёную кожу и белые волосы. Мальчиком он мог часами крутить колёсико, двигавшее кадры на просвет. При этом, ему скучно было смотреть те же фотографии, но уже проявленные, обретшие цвет, который в воображении Шурочка сам мог придумывать неправильным негативам.
Третья шкатулка распахнулась в прихожей, где раскорячилась допотопная подставка для обуви, всегда напоминавшая больное животное. Дёмину вдруг захотелось подозвать к себе этого зверя, чтобы наконец прекратить его мучения: «цып-цып-цып, тьфу…» – бессмысленно раздались у него в голове звукоподражания, и ему почудилось, что галошница сбрасывает с себя столетнюю неподвижность, поскрипывая хлипкими сочленениями, зевая прямоугольной пастью, набитой вместо зубов босоножками, туфлями и сапогами. Вспомнилось, неизвестно откуда почерпнутое «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».
«Что бы я стал делать, двинься с места это угробище? Наверное, позволил бы себя пожрать».
Когда Дёмин понял, что обошёл все комнаты и что каждая палехская шкатулочка вывернула ему своё алое бархатное нутро, его замутило от несуществующего тлетворного запаха смерти в квартире. Делать вдохи становилось всё сложнее и сложнее, ведь крепла уверенность в том, что еще немного и в ноздри бросится – Дёмин точно не знал, что это за средство – лекарственный запах, сопровождавший бабушку в последние её дни. Это был эфирный аромат с примесью едкого спиртосодержащего раствора и ягод, что делало его ещё более отвратительным.
В действительности, в жилище после многочисленных проветриваний можно было уловить только ароматы ветхой мебели и гниющего дерева, однако Дёмину не удавалось преодолеть себя и сделать полноценный вдох. Кругом пошла голова, хичкоковские птицы были готовы атаковать, предварительно закружившись в железном кольце, обрамлявшем лоб Дёмина. Он почти слышал фарфоровые громыхания рыб по полу на фоне гула мистической стройки и почти видел потусторонний голубой свет из своей детской комнаты.
Скорее прочь! Гнать из склепа, в котором замурована лучшая часть жизни, лучшая часть самого себя! Вывалиться за порог взбунтовавшейся памяти и освободиться от вины за предательство Шурочки, который всегда знал, кем хочет быть. Дёмин же – вставший на чужое место фантом, вот почему его выкуривают немилосердными способами из дома, в котором может жить лишь настоящий мальчик, а не вымышленный мужчина.
На улице Дёмину стало легче. Вещи не погнались за ним по лестнице, но долго бились в дерматиновую щеку двери глухо и, как показалось, жалобно.

