Георгий Нагайцев
Поэт, прозаик. Родился в 2002 году в Нижнем Новгороде. Студент Литинститута. Создатель и главный редактор журнала “Таволга”. Участник творческого объединения “Бутырская школа”. Публиковался в мастерской “Флагов”, на портале "полутона". Живёт в Москве.
"Вета"
"Вета" — текст старый, незрелый, несколько перегруженный избразительно-выразительными языковыми средствами, но наивно-милый. это вдохновлённая сашесоколовской "школой" попытка осмысления трагической гибели неантропоморфного существа, любимого, близкого сердцу, но никогда тебе не принадлежавшего, не-твоего.
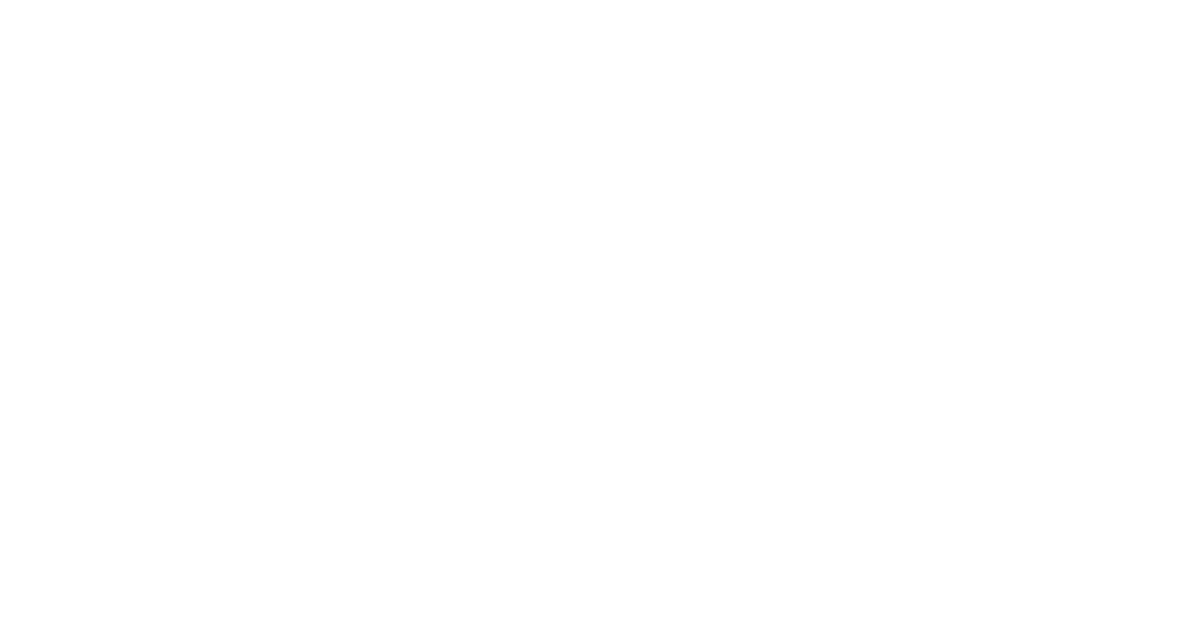
Вета
в сердце возьмет певучую
кисть обожженной клюквы
и обойдя созвучия
произнесет по буквам
сад журавлиный яд
призрак автопортрета
краденый звукоряд
веточка ветка Вета
темный кошачий взгляд
в доме сплошного света
Иван Плотников
кисть обожженной клюквы
и обойдя созвучия
произнесет по буквам
сад журавлиный яд
призрак автопортрета
краденый звукоряд
веточка ветка Вета
темный кошачий взгляд
в доме сплошного света
Иван Плотников
И словно вся она была соткана из тонкого и прозрачного пения чечевицы, прелого запаха летнего леса да геометрического торжества солнечных лучей с миллиардом вальсирующих в них пылинок. Двигалась она бесшумно, тише позднеосеннего безмолвия природы, точно плыла на босых ступнях своих. Брела ли, чуть слышно насвистывая соловьиную песнь и собирая букет нежного вереска, неслась ли ветром, нет, быстрее ветра по колючей сосновой хвое, – всегда дарила она воздуху стойкий горьковатый дух спелой брусники. Хрустальное тело её погружено было в короткое белое платьице, лёгкое, как разразившийся на солнце радугой мыльный пузырь, и хоть сидела она только на сочных зеленеющих лугах, да постоянно обнималась со смолистыми распушившимися лиственницами, никогда не замечал я ни пятнышка на белоснежной воздушной ткани. Рыжие, словно грудь птички малиновки, кудри её водопадом спускались к стройным ножкам, нет-нет да выглянет где-нибудь цветочек ветреницы, подразнит и спрячется обратно в солнечное золото волос. Она никогда не красилась, да и не нужно было ей – только нарушилась бы естественность и девственная соприродность окроплённого веснушками лица. Её черничного оттенка глаза вечно смеялись, но не кокетливой усмешкой светской львицы, нет, в них отражалась удивительная простота всего нашего мира, и эта простота казалось такой смешной, что при взгляде на неё сложно было не улыбнуться в ответ. Да и не только глаза – всё в ней смеялось, заливалось звонким журчанием весеннего ручья: веснушки, нос с крохотной горбинкой, застывший в просветлённой улыбке рот.
Мы встретились в лесу. В тот июльский день по дну неба неохотно ползли розоватые комочки облаков, на поседевшей берёзе надрывно каркал грач, сонно и важно жужжа, носились по знойному воздуху пёстрые шмели. Мой накренившийся дом стоял на левом берегу неспокойного Луха, иногда весной бурный поток кристальной воды выходил из берегов и затапливал первый этаж. Но сейчас речка совсем обветшала, и можно было преспокойно перейти вброд, разумеется, если ты знал места. Или, намочив ноги только чуть выше колен, добраться до песчаного острова, разделяющего течение на две неравные части. А там, на острове, вот там уж тебе раздолье: хочешь – бери палочку да пиши что-нибудь на влажном песке, хочешь – вырой у берега канал, в который заплывут любопытные глупые пескари, а можешь и просто растянуться на солнышке, зажмуриться, как кот, от удовольствия и отмахиваться от назойливых слепней. Но в тот день на остров я не пошёл, тянуло меня в лес, но не в тот, что на моём берегу, а в противоположный. Я вышел из дома и сразу очутился подле воды. Вниз по течению был мост, но туда мне не хотелось: снял кроссовки, закатал брюки и двинулся напрямик, через поток, норовящий унести меня в бешеный танец. И вот я пересёк Лух и очутился в лесу. Под ногами похрустывала хвоя, пружинил мох. Где-то очень высоко, в кронах могучих сосен, отстукивал известный лишь ему самому ритм дятел. Я сел на могучий камень, скинул обувь и прикрыл глаза. Постарался почувствовать, где кончается граница моего тела и начинается лес. Граница была слабо прорисованной, расплывчатой. Не было ни меня, ни леса по отдельности, был только процесс взаимодействия человека и природы, слияния и полного отождествления. Такими практиками я занимался каждый день. Но вдруг из-за дерева выбежала, рассыпая смех свой, высокая девушка в снежном платье. Она мчалась за маленькой огненно-рыжей белочкой. Поймала, чмокнула в подвижный носик и в восторге с ней закружилась. Белка ловко вскочила на её плечо, скрытое полупрозрачным шёлком. «Морда белки очень походит на кроличью. Только уши не такие», – отчего-то сказал я. Девушка резко обернулась на меня, испуганно взглянула, но через мгновение снова засмеялась. Так мы и подружились.
И я полюбил её, всем существом своим влюбился, ни о чём другом думать не мог. Но ей, конечно, не говорил об этом, не расстраивал, ведь она никак не могла ответить мне взаимностью, я был для неё так, забавный друг, не больше. Слишком неземная она была для чувств ко мне, слишком искренняя, чистая и простая. Весь мир она любила целиком, в своей полноте. Никогда не слышал я от неё ни слова, человеческая речь была для неё грешна, низменна и несовершенна. Говорила она лучистым смехом своим, до мудрости простым взглядом, солнцем волос, невесомым, как пёрышко воробьиное, телом. И этому языку внимало всё вокруг, весь мир - шагающие в никуда сосны, мох, щекочущий её детские ступни, пёстрые беззаботные бабочки, зоркие мохноногие сычи и хитрые лисички, растущие вдоль тропинок. Ему внимал и я, я понимал этот язык. Думаю, потому мы и подружились.
Однажды она показала мне свой дом – он тоже стоял прямо у реки, только на другом берегу и сильно вниз по течению, там, за мостом. Низенькая избушка нахохлилась, распахнув в лето все свои окна. Но я не поверил ей, нет, это не её дом. Она не могла жить в нём, она жила только в лесу, в окружении исполинских сосен и лиственниц в пышных изумрудных платьях, среди шустрых пугливых зайцев и бесчисленных семейств суетящихся муравьёв. Да и вечно видел я её в компании птиц и зверей: то плетётся рядом с ней фыркающий ёж с длинными ушами, то скачет трясогузка с угольной головкой. Любил я вечерами сидеть, приникнув к простодушной сосне, укрывшись пушистой лапой, и смотреть, как плавает она, как дрожит от движений тела её чёрная поверхность Луха, отражающая задумчивую луну и миллионы звёзд - ярких и совсем бледных. «Звёзды – это дырочки в большой тёмной тарелке, защищающей хрупкую землю от абсолютного света. Свет этот есть любовь, он проникает к нам через эти дырочки, но, если бы тарелки не было, свет бы снёс всех нас, мы бы не выдержали потока абсолютной любви», – как-то раз сказал я ей. А по ночам, укутавшись под одеяло, слышал я через распахнутое окно пение её, дотекавшее по воздуху с той стороны реки, из бора. В песнях её не было слов, она будто насвистывала их, и я узнавал давно провалившиеся в недра памяти мотивы песен, что пела мне когда-то в детстве бабушка. Но не мог вспомнить ни одного названия.
Она умерла осенью, где-то в конце октября. В те дни заметно холодало, берёзы почти скинули надоевшую листву, сосны хмурились и бледнели. Перед этим она тяжело и долго болела, вместо пения по ночам я слышал её непрекращающийся надрывистый кашель. Его подхватывал тоскливый вой волков, душераздирающий крик лисиц. Вся природа никла, болела и скорбела, теряя жизненные краски. Я похоронил её на поляне в лесу, там, где в яркие солнечные дни замысловатыми фигурами скрещивались длинные тени сосен, окруживших прогалину. Её безвольное тело потеряло последний вес, словно на руках моих не было ничего. Улыбка на устах её не растаяла, но утратила жизнь, неестественно застыла, как улыбка памятника. Я похоронил её там, на поляне, и теперь там холм, сплошь поросший лиловым душистым вереском, не отцветающим даже зимой. А под подушкой я храню её длинный рыжий волос, он светится на солнце и хранит в себе запахи летнего леса: сладковатый аромат подрастающих грибов, хмельное дыхание сосновой хвои и горьковатый привкус алой земляники.
Мы встретились в лесу. В тот июльский день по дну неба неохотно ползли розоватые комочки облаков, на поседевшей берёзе надрывно каркал грач, сонно и важно жужжа, носились по знойному воздуху пёстрые шмели. Мой накренившийся дом стоял на левом берегу неспокойного Луха, иногда весной бурный поток кристальной воды выходил из берегов и затапливал первый этаж. Но сейчас речка совсем обветшала, и можно было преспокойно перейти вброд, разумеется, если ты знал места. Или, намочив ноги только чуть выше колен, добраться до песчаного острова, разделяющего течение на две неравные части. А там, на острове, вот там уж тебе раздолье: хочешь – бери палочку да пиши что-нибудь на влажном песке, хочешь – вырой у берега канал, в который заплывут любопытные глупые пескари, а можешь и просто растянуться на солнышке, зажмуриться, как кот, от удовольствия и отмахиваться от назойливых слепней. Но в тот день на остров я не пошёл, тянуло меня в лес, но не в тот, что на моём берегу, а в противоположный. Я вышел из дома и сразу очутился подле воды. Вниз по течению был мост, но туда мне не хотелось: снял кроссовки, закатал брюки и двинулся напрямик, через поток, норовящий унести меня в бешеный танец. И вот я пересёк Лух и очутился в лесу. Под ногами похрустывала хвоя, пружинил мох. Где-то очень высоко, в кронах могучих сосен, отстукивал известный лишь ему самому ритм дятел. Я сел на могучий камень, скинул обувь и прикрыл глаза. Постарался почувствовать, где кончается граница моего тела и начинается лес. Граница была слабо прорисованной, расплывчатой. Не было ни меня, ни леса по отдельности, был только процесс взаимодействия человека и природы, слияния и полного отождествления. Такими практиками я занимался каждый день. Но вдруг из-за дерева выбежала, рассыпая смех свой, высокая девушка в снежном платье. Она мчалась за маленькой огненно-рыжей белочкой. Поймала, чмокнула в подвижный носик и в восторге с ней закружилась. Белка ловко вскочила на её плечо, скрытое полупрозрачным шёлком. «Морда белки очень походит на кроличью. Только уши не такие», – отчего-то сказал я. Девушка резко обернулась на меня, испуганно взглянула, но через мгновение снова засмеялась. Так мы и подружились.
И я полюбил её, всем существом своим влюбился, ни о чём другом думать не мог. Но ей, конечно, не говорил об этом, не расстраивал, ведь она никак не могла ответить мне взаимностью, я был для неё так, забавный друг, не больше. Слишком неземная она была для чувств ко мне, слишком искренняя, чистая и простая. Весь мир она любила целиком, в своей полноте. Никогда не слышал я от неё ни слова, человеческая речь была для неё грешна, низменна и несовершенна. Говорила она лучистым смехом своим, до мудрости простым взглядом, солнцем волос, невесомым, как пёрышко воробьиное, телом. И этому языку внимало всё вокруг, весь мир - шагающие в никуда сосны, мох, щекочущий её детские ступни, пёстрые беззаботные бабочки, зоркие мохноногие сычи и хитрые лисички, растущие вдоль тропинок. Ему внимал и я, я понимал этот язык. Думаю, потому мы и подружились.
Однажды она показала мне свой дом – он тоже стоял прямо у реки, только на другом берегу и сильно вниз по течению, там, за мостом. Низенькая избушка нахохлилась, распахнув в лето все свои окна. Но я не поверил ей, нет, это не её дом. Она не могла жить в нём, она жила только в лесу, в окружении исполинских сосен и лиственниц в пышных изумрудных платьях, среди шустрых пугливых зайцев и бесчисленных семейств суетящихся муравьёв. Да и вечно видел я её в компании птиц и зверей: то плетётся рядом с ней фыркающий ёж с длинными ушами, то скачет трясогузка с угольной головкой. Любил я вечерами сидеть, приникнув к простодушной сосне, укрывшись пушистой лапой, и смотреть, как плавает она, как дрожит от движений тела её чёрная поверхность Луха, отражающая задумчивую луну и миллионы звёзд - ярких и совсем бледных. «Звёзды – это дырочки в большой тёмной тарелке, защищающей хрупкую землю от абсолютного света. Свет этот есть любовь, он проникает к нам через эти дырочки, но, если бы тарелки не было, свет бы снёс всех нас, мы бы не выдержали потока абсолютной любви», – как-то раз сказал я ей. А по ночам, укутавшись под одеяло, слышал я через распахнутое окно пение её, дотекавшее по воздуху с той стороны реки, из бора. В песнях её не было слов, она будто насвистывала их, и я узнавал давно провалившиеся в недра памяти мотивы песен, что пела мне когда-то в детстве бабушка. Но не мог вспомнить ни одного названия.
Она умерла осенью, где-то в конце октября. В те дни заметно холодало, берёзы почти скинули надоевшую листву, сосны хмурились и бледнели. Перед этим она тяжело и долго болела, вместо пения по ночам я слышал её непрекращающийся надрывистый кашель. Его подхватывал тоскливый вой волков, душераздирающий крик лисиц. Вся природа никла, болела и скорбела, теряя жизненные краски. Я похоронил её на поляне в лесу, там, где в яркие солнечные дни замысловатыми фигурами скрещивались длинные тени сосен, окруживших прогалину. Её безвольное тело потеряло последний вес, словно на руках моих не было ничего. Улыбка на устах её не растаяла, но утратила жизнь, неестественно застыла, как улыбка памятника. Я похоронил её там, на поляне, и теперь там холм, сплошь поросший лиловым душистым вереском, не отцветающим даже зимой. А под подушкой я храню её длинный рыжий волос, он светится на солнце и хранит в себе запахи летнего леса: сладковатый аромат подрастающих грибов, хмельное дыхание сосновой хвои и горьковатый привкус алой земляники.

