Дарья Сотникова
Родилась и живу в Москве. Студентка 4 курса историко-филологического института РГГУ.
"To be recycled: фем-письмо, психоанализ и экология"
я думаю, что все мы живем в смертоносном поцелуе.
оксана васякина
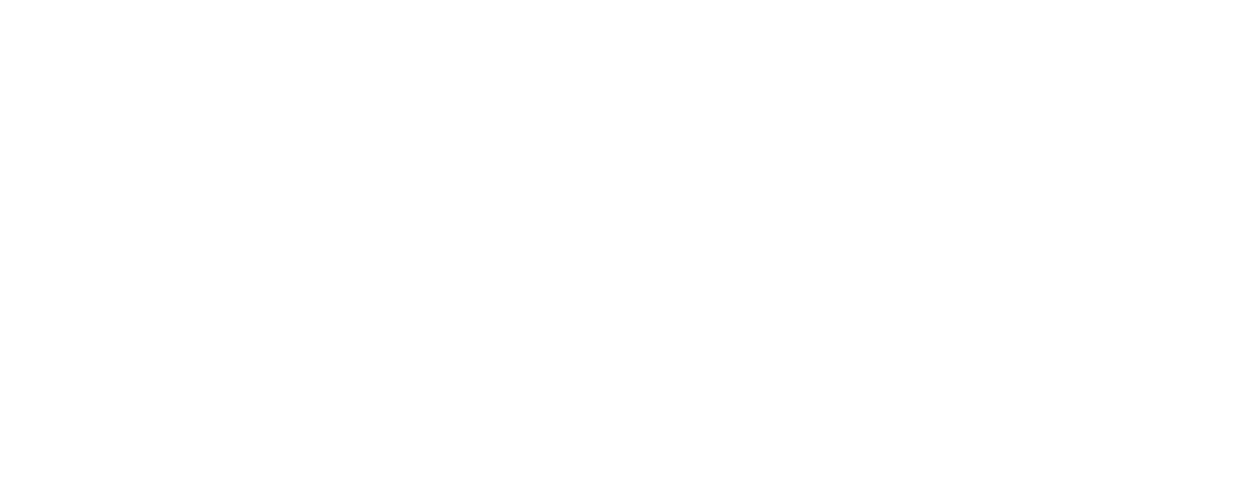
La Statue. 1995
Sarah Moon
Иногда я брала хлопковую сумку и шла на прогулку. На дороге лежали подснежники, или вернее, ветреницы лесные – анемоны. Они кучковались среди битого стекла, обрезков пенопласта, бычков, пачек из-под сигарет Winston, целлофановых пакетов. Я наклонялась и рассматривала, как земля проникла в дыры на вискозных салфетках, ввалилась в консервные банки своей увесистой щедрой массой, как тонкий слой мха образовался на чьей-то тканевой тапке, и вылезла осока по контуру резиновой шины, внутри нее. Так происходит recycling.
Recycling – значит вернуть вещь самообновляемому циклу (occur, recurincycle[I]). Морфема -re – одновременно значит возвращение к прошлому, к изначальному месту и – обновление:«back, backfrom, backtotheoriginalplace» и «again, anew, oncemore»[II]. То есть вернее было бы определить recycling как новое - и повторное возвращение чего-либо внеположному субъектом циклу.
Оксана Тимофеева применяет этот термин для описания своего исследовательского метода: она обращается к таким скомпрометированным понятиям как «родина», «душа», «любовь» и перерабатывает их через призму иной оптики. Работая над трактатом о бессмертии души, она использует аристотелевскую и гегельянскую интерпретацию души как переходной субстанции – переходом между вещью и ее инобытием[III]. Как если фиксированная идентичность, в которой субъект совпадает сам с собой в формуле «Я=Я», –тавтологическая позиция власти, мешающая увидеть Другого в самом себе. Напротив, душа, по мысли Тимофеевой, –это и есть Другой, который всегда уже находится внутри субъекта и его оживляет –делает меня мной, парадоксальным образом мной не являясь.
Я рассматриваю тыльную сторону ладони – в порезы и трещины на коже забилась земля, пальцы истыканы березовым ворсом – я вижу занозы и поэтому совсем не боюсь: они скоро набухнут и выйдут с гноем. На прогулке я собрала разные вещи в свою хлопковую сумку. Среди них много пенопласта, кусков укрывного материала, изоляционной пены. Все они, в отличие от других вещей, остались целыми, не подверженными работе земли – неестественно торчали как брошенные артефакты безвременья в динамичном цикле метаморфоз. Я вынимала каждую такую вещь, лишая землю искусственного сияния, голыми руками: мне хотелось касаться артефактов без дополнительного слоя ткани, чтобы теплота моего тела взрывалась о чужую кожу, помещенную в поле видимого.
Подушки моих пальцев стали чесаться и колко пульсировать. Я долго пыталась найти следы того, что билось в них, найти причину этого ощущения, но так и не смогла. Только спустя день на коже проявились белые выпуклые пятна – мне сказали, что это может быть аллергической реакцией на выделяемый пенопластом стирол.
Когда я трогала пластик, я думала, что трогаю смерть.
«Вдоль линии берега кто-то оставил мешки мусора и они обмякли как мертвые тела у дороги», –пишет Оксана Васякина в «Штормовых элегиях»[IV].
Природа пластика более всех других сопротивляется работе времени, борясь за сохранность формы, чтобы оставить вещь равной самой себе. Так артефакты и лежали – самотождественными с(з)ияющими кусками, по контуру которых пульсировало тело многих взаимопроникающих тел. Я думала о том, что было бы, трогай я эти вещи в перчатках. Защитить свой организм от чуждых токсинов, как защитить его от заражения смертью – насколько это возможно? Или эти полые тела просто сделали видимым присутствие смерти во мне самой?
«Каждое «я» всегда уже есть «мы», и такова вирусная природа языка: само общение – это форма заражения»[V], - пишет Оксана Тимофеева в эссе «Не обижайте мух».
В цикле «Роза», относящемся к пятому разделу поэтического сборника Галины Рымбу «Ты – будущее», образным воплощением угнетенных капиталистическим империализмом становится фигура седого мальчика с дырявым лицом и зараженным внутренним храмом. Дыра, дырявость – это, с одной стороны, маркер места трагедии, слома внутри целостности сознания и тела (дыру оставляет после себя кровь или гной, выходящие из кожи во время ее заражения), а с другой, точка входа, трансгрессивного опыта – в пространство нового видения.
Так пишет Оксана Васякина в «Оде смерти»[VI]:
мир раскаленный и в нем такие странные дупла
дупла пусты в них заглянуть очень страшно
как если они это тихие скромные ямы могил
распотрошенных сожженных созданий
Дыры и дупла – такие пространства перехода (для души) – феноменологического опыта слома внутри вещи/места, необходимого для того, чтобы раскрыть ее новые, не видимые до этого функции.
Роза в поэтическом сборнике Рымбу представлена как развернутая метафора капиталистической империи, паноптикума и войны. Она наделена многослойным, пахнущим, звучащим телом, в котором тело цветка (бутоны, лепестки, шипы, корни) слито с человеческим (гермафродитным) телом – у неё есть кишечник, дыхание, берцовые кости, желудок, ноздри, горла, головы, губы. Это же тело многослойно просачивается в земные пространства, вмещая в себя все элементы (над)человеческого косма– от колонизированных территорий, военного оружия, цинковых гробов и кладбищенской земли до атрибутов обмена капиталом.
Роза переживает неисчислимые метаморфозы – становясь то новобрачной, то войной (танцпол как плацдарм), с бомбами,газовыми шарами, припудренная радием. За розой-днём–следит садовник, он же победитель, в чьем образе сконцентрирована воинствующая гипермаскулинность, церковная православная догматика и паноптический вездесущий взор, от которого можно спрятаться только ночью. Садовник ликвидирует лишние шипы (как империя подавляет голоса восставших колоний), нормализует ее, удобряет –старой кровью, птичьим языком –анестезией идеологии.
В динамике метаморфоз, подвергаемое воздействию садовника и ядерного дня, тело розы становится полым:
война – это что-то пустое
тошнота почв
– с разбросанными по разным частям косма органами, разорванными связками, связями – телом-оберткой, где коммуникацию глушит безупречность света. И единственный издаваемый ею звук – монотонный ритм, тревожное тиканье – как стучит под кожей нарывающий гнойник или как воет сирена. Этот звук зашивает глаза, умерщвляет.
Толерантными к нему остаются только те, чьи голоса не слышны. Только они видят розу во всем многообразии отправляемых ею сигналов власти:
ее образ идет, и виден
только лишенным
Тогда оказывается, что настырная трансляция обертки, убеждающая спящих в том, что в такой обертке замыкается бытие, –иллюзия; обертка – только проекция розы, которая уходит корнями куда-то глубже – в черноту бессознательного:
Черным капает место, из которого ты появилась
Я думаю о том, что пенопласт не подвержен гниению, но подвержен эрозии – под воздействием ультрафиолета. А значит, также вовлечен в долгий процесс возвращения к всеобщему циклу внеположного субъектом самообновления. И его сияющая цельность иллюзорна настолько, насколько ограничено поле моего восприятия времени. Как если смерть существует только в пределах моей самозамкнутости.
Между словами «З(з)емля» и «почва» есть разница. «E(e)arth»обозначает планету Земля, а также поверхность земли (по которой ходят) и субстанцию, которая составляет верхний слой земной коры. Земля включает почву («solid»). Часто почва искусственно создается людьми благодаря добавлению в землю полезных для растений минеральных удобрений. Почва всегда существует в контексте плодородия.
Федор Достоевский сформулировал неофициальный манифест почвенников в Объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год [VII]. В этом тексте он рассуждает об истории сословного раскола внутри русского общества после реформ Петра Первого, а также о русской миссии – по облагораживанию всей Земли. Особенную роль в этом пути играет народная почва: «Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал»[VIII]. И далее: «мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, … что русская идея будет … синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях»[IX]. Для исполнения этой миссии Федор Достоевский считает необходимым примирение цивилизации с народом путем просвещения последнего. Эту задачу он закрепляет за дворянским сословием. Выходит такой парадокс: будущее России и всей Земли заключено в почве, коей является народ. Народ считает идущую от Петра Первого просвещенческую политику иностранной, то есть чуждой, и всячески противится ее воздействию, сохраняя свою «самобытность». Следовательно, предлагаемая Достоевским просвещенческая политика одновременно нацелена на возвращение «самобытности» (через диалог с «народом») и на ее ликвидацию. Другой способ воссоединения с «народным началом», который был опробован, по Достоевскому, единожды – это внешнее военное противостояние. В этом контексте упоминается Отечественная война 1812 года, когда граница «русского народа» и «русской цивилизации» перенеслась на границу с французской армией. Так война – посредством более глобальной изоляции – позволяет, по Достоевскому, преодолеть вакуум на пути внутренней коммуникации.
Одной из характеристик «народной почвы» Достоевский называет силу непочатую, то есть не начатую. Получается, русский народ – почва, которая никогда еще не плодоносила, и следовательно, находится в ожидании колонизации-оплодотворения благородным семенем русского знания. Такое положение «народа» рифмуется с состоянием «голой жизни», которое Оксана Тимофеева вспоминает[X] вслед за Джорджо Агамбеном. Агамбен рассматривает это состояние на примере клеща, который в течение 18 лет находится в анабиозе в постоянном ожидании стимула к пробуждению – запаха кожи теплокровного животного.
Очевидно, что выдвинутые Достоевским тезисы, нашедшие развитие в целом течении интеллектуальной мысли XIX века, выстроены на тривиальной оппозиции «своего»-«чужого», где пространство «своего» постоянно сужается и сакрализуется, а пространство «чужого» –подвергается насильственному изменению, присваивается или уничтожается. Эта политика создает иллюзию возвращения/оживления идентичности, но пространство такого тотального (само)отчуждения полое – как проекция розы – серая зона анабиоза с бесконечной петлей переумираний и насилия. Потому что у почвы и тем более земли нет народа. Напротив, ее первостепенная функция – recycling – оживление посредством столкновения безымянных «другостей».
В знаменитой теории Геи Джеймс Лавлок отказывается от восприятия Земли как всеобщего дома и называет ее постоянно развивающейся сложной системой, в которой происходит непрерывное взаимообращение живого и мертвого: … Gaia is also the name of the hypothesis of science which postulates that the climate and the composition of the Earth always are close to an optimum for whatever life inhabits it [XI] .Имывсе, утверждаетЛавлок, ейпринадлежим.
То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зёрнам окаменелой пшеницы, -
стихи Осипа Мандельштама из «Нашедшего подкову»[XII]. В этом тексте он деконструирует вертикаль романтического двоемирия, сводя небо и воду к густой субстанции земли и оставляя полой человеческую грезу о небе (или точнее, человеческую «необузданную жажду пространства»):
Воздух замешен так же густо, как земля, —
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.
Лирический герой, в состоянии крайней экзистенциальной уязвимости («Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете»), лишенный надмирной иллюзии и всякого начала-истока-дома, лишенный почвы – движется по хрупкой «неудобной как хребет осла» земле – постоянно обнаруживая недостаточность в себе самом:
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого…
Иными словами, смерти не существует. («но нет мертвецов//они все среди нас поселились»[XIII]).
А существует «притяженье земного лона». Которое рифмуется у Галины Рымбу и Оксаны Васякиной с пространством ночи.
В поэтическом сборнике «Ты – будущее» черный и белый цвета маркируют полярные времена суток, властных дискурсов и частей человеческой психики.
Белый – цвет (само)контроля/цензуры, Нормы, тотальной видимости, где одни (исходя из классовой селекции) всегда доступны наблюдению других и, значит, всегда доступны их насилию. В стихотворении Лучи из третьего раздела сборника моделируется бинарное пространство со строгой иерархией верха-низа, где именно верх является адресатом прямого насилия:
мама я вижу как из твоих ладоней выходят свирепые лучи
они обжигают меня
я закрываю руками голову и не слышу удары
Причем, лучи, или удары, или капли дождя всегда – падают– стремятся воздействовать (линейно высвечивать свои владения) по направлению вниз, но никогда не кверху, как будто во всем этом ослепительном стерильном пространстве нет одного источника света – солнца – этот свет просто стоит как бесконечный распыленный день.
Белый – это цвет автоматизации языка и отчуждения – матери от сына, власти от подчиненных, одного угнетенного от другого. Это цвет, агрессивно воздействующий на любое сообщение шумовой радиацией (необновляемой кровью формул и канцеляризмов) так, что намерение к коммуникации застывает в зияющей разряженной пустоте, оставляя нам неизбежно ложное ощущение себя [XIV], обертку или проекцию, отражающую кукольный герметичный, вылепленный кем-то сверху мир, прорваться из которого невозможно.
В психоаналитической практике существует понятие навязчивых мыслей – тревожного возвращения к определенным обсессиям, часто выражаемое в повторении одних и тех же движений, слов, образов. Прерывание же этого круга и появление возможности концентрироваться на других контекстах внешнего мира связывается с высвобождением сознания субъекта, расширением поля его внутреннего зрения.
Ритмические изменения в поэтическом сборнике часто не только свидетельствуют об изменении субъекта речи, но и маркируют такие навязчивые мысли, выражаясь в фоновом повторении одних и тех же мотивов/битов. С одной стороны, они усиливают эмоциональное воздействие в излагаемых нарративах, как бы оттеняя их (там-там-там в «Розе», долбят-долбят-долбят в тексте о проституции, дух-дух-дух в «Закон не обладает»), с другой, –проводят иную, кажется, инфантильно-искреннюю линию, такое несбыточное ребяческое желание-мантру, близкое к утопии: мама-мама-мама и обними-меня-обними-меня-обними-меня, – эта мантра доносится с той стороны эха-ночи, голосом ребенка, и прорывает границу закупоренного в насилии мира.
Тогда, как и в случае с оберткой розы, оказывается, что неизмеримость насилия-света, его вездесущность иллюзорна хотя бы потому, что существует пространство сна, время ночи – те уголки человеческой психики, куда не добираются лучи разума и где работает беспорядочная анархистская пульсация.
Это пульсация вагины.
В «Оде смерти» Васякиной читаем:
ночь перед моими глазами превращается в дикий
неистовый сад безобразный
я хотела ее для себя объяснить и перепридумать
и другим показать что в ночи нет страшных затей
а только другой распознанный мир
Ночь – время и пространство предельной явленности мира-хаоса, мира-отсутствия и мира отсутствующих (при свете). Мира, в котором работает не навязчивое, приглушенное повторение одного мотива, но гинзберовский Вопль – изнутри экзистенциального ужаса радикальной индивидуации – от видимости которого можно задохнуться, когда все пятнами, смутными группами, когда опыт множественной трансгрессии (сквозь клетку языка-закона [XV]) приводит к краю опыта, к краю переписки и за ее край.
На периферии, в безопасном от наблюдения и насилия пространстве-времени ночи – обширными мазками, развернутыми перечислениями-списками – последовательно называются социально уязвимые и подавляемые группы, как то: человек с ментальным расстройством, бездомный, лишенный собственности, человек с ПТСР, иностранка в националистском обществе, житель из региона, проститутка, любая женщина, приравниваемая к названию лейбла, продукту. Вместе с этими одновременно конкретными и типическими фигурами называются проблемы национализма, низкого прожиточного минимума, насилия в семьях, просто насилия, сексизма, эйджизма, стигматизации ВИЧ-инфекций, гомофобии, отсутствия социальной помощи людям с инвалидностью, матерям и так далее:
это мир.
вот это мир.
И в этом мире – угнетенные тела делят между собой тягучее, никогда не оформленное до конца, но осязаемое коллективноепространство, отмыслившись от мест, перетекая друг в друга и друг другу себя переводя:
Чужое в конце лета всегда кажется ближе.
Я думаю, что земля похожа на память многих переходящих друг в друга тел. В поэтическом сборнике Рымбу присутствуют коровы, эксплуатируемые людьми, «вбитые в землю». Я думаю, что коровы находятся на под землей, а внутри нее. Так появляется «на руинах» жизнь, анемоны становятся стеклом. «Мир очень слабое место чтобы твой взгляд удержать» [XVI].
Земля все помнит. И все, что она помнит, ей не принадлежит.
[I] https://www.etymonline.com/word/recycle#:~:text=recycle%20(v.),figurative%20use%20is%20by%201969
[II] Там же.
[III] Оксана Тимофеева. О душе: растительное, животное, человеческое.
https://youtu.be/Vd0hh_SbW6s
[IV] Оксана Васякина. Штормовые элегии. https://flagi.media/piece/180
[V] Оксана Тимофеева. Это не то. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022. - Стр. 197.
[VI] Оксана Васякина. Рана. М.: Новое литературное обозрение, 2021. – стр. 141-153.
[VII] Фёдор Достоевский. Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год.
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/public/obyavlenie-o-podpiske-na-vremya-1861.htm
[VIII] Там же.
[IX] Там же.
[X] Оксана Тимофеева. Это не то. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022. - Стр. 197.
[XI] What is Gaia? James Lovelock
http://www.ecolo.org/lovelock/what_is_Gaia.html
[XII] Осип Мандельштам. Нашедший подкову
https://www.culture.ru/poems/41780/nashedshii-podkovu
[XIII] Галина Рымбу. Ты – будущее. М.: Центрифуга, Центр Вознесенского, 2022. 222 с.
[XIV] Суркова С. Постулярная феминность: о новой книге стихов Галины Рымбу “Ты будущее”// (https://syg.ma/@elena-gennadievna/postuliruia-fieminnost-o-novoi-knighie-stikhov-galiny-rymbu-ty-budushchieie).
[XV] Масалов А. Шестикнижие // Новое литературное обозрение. 2021. № 172.
[XVI] Оксана Васякина. Рана. М.: Новое литературное обозрение, 2021. – стр. 141-153.
Sarah Moon
Иногда я брала хлопковую сумку и шла на прогулку. На дороге лежали подснежники, или вернее, ветреницы лесные – анемоны. Они кучковались среди битого стекла, обрезков пенопласта, бычков, пачек из-под сигарет Winston, целлофановых пакетов. Я наклонялась и рассматривала, как земля проникла в дыры на вискозных салфетках, ввалилась в консервные банки своей увесистой щедрой массой, как тонкий слой мха образовался на чьей-то тканевой тапке, и вылезла осока по контуру резиновой шины, внутри нее. Так происходит recycling.
Recycling – значит вернуть вещь самообновляемому циклу (occur, recurincycle[I]). Морфема -re – одновременно значит возвращение к прошлому, к изначальному месту и – обновление:«back, backfrom, backtotheoriginalplace» и «again, anew, oncemore»[II]. То есть вернее было бы определить recycling как новое - и повторное возвращение чего-либо внеположному субъектом циклу.
Оксана Тимофеева применяет этот термин для описания своего исследовательского метода: она обращается к таким скомпрометированным понятиям как «родина», «душа», «любовь» и перерабатывает их через призму иной оптики. Работая над трактатом о бессмертии души, она использует аристотелевскую и гегельянскую интерпретацию души как переходной субстанции – переходом между вещью и ее инобытием[III]. Как если фиксированная идентичность, в которой субъект совпадает сам с собой в формуле «Я=Я», –тавтологическая позиция власти, мешающая увидеть Другого в самом себе. Напротив, душа, по мысли Тимофеевой, –это и есть Другой, который всегда уже находится внутри субъекта и его оживляет –делает меня мной, парадоксальным образом мной не являясь.
Я рассматриваю тыльную сторону ладони – в порезы и трещины на коже забилась земля, пальцы истыканы березовым ворсом – я вижу занозы и поэтому совсем не боюсь: они скоро набухнут и выйдут с гноем. На прогулке я собрала разные вещи в свою хлопковую сумку. Среди них много пенопласта, кусков укрывного материала, изоляционной пены. Все они, в отличие от других вещей, остались целыми, не подверженными работе земли – неестественно торчали как брошенные артефакты безвременья в динамичном цикле метаморфоз. Я вынимала каждую такую вещь, лишая землю искусственного сияния, голыми руками: мне хотелось касаться артефактов без дополнительного слоя ткани, чтобы теплота моего тела взрывалась о чужую кожу, помещенную в поле видимого.
Подушки моих пальцев стали чесаться и колко пульсировать. Я долго пыталась найти следы того, что билось в них, найти причину этого ощущения, но так и не смогла. Только спустя день на коже проявились белые выпуклые пятна – мне сказали, что это может быть аллергической реакцией на выделяемый пенопластом стирол.
Когда я трогала пластик, я думала, что трогаю смерть.
«Вдоль линии берега кто-то оставил мешки мусора и они обмякли как мертвые тела у дороги», –пишет Оксана Васякина в «Штормовых элегиях»[IV].
Природа пластика более всех других сопротивляется работе времени, борясь за сохранность формы, чтобы оставить вещь равной самой себе. Так артефакты и лежали – самотождественными с(з)ияющими кусками, по контуру которых пульсировало тело многих взаимопроникающих тел. Я думала о том, что было бы, трогай я эти вещи в перчатках. Защитить свой организм от чуждых токсинов, как защитить его от заражения смертью – насколько это возможно? Или эти полые тела просто сделали видимым присутствие смерти во мне самой?
«Каждое «я» всегда уже есть «мы», и такова вирусная природа языка: само общение – это форма заражения»[V], - пишет Оксана Тимофеева в эссе «Не обижайте мух».
В цикле «Роза», относящемся к пятому разделу поэтического сборника Галины Рымбу «Ты – будущее», образным воплощением угнетенных капиталистическим империализмом становится фигура седого мальчика с дырявым лицом и зараженным внутренним храмом. Дыра, дырявость – это, с одной стороны, маркер места трагедии, слома внутри целостности сознания и тела (дыру оставляет после себя кровь или гной, выходящие из кожи во время ее заражения), а с другой, точка входа, трансгрессивного опыта – в пространство нового видения.
Так пишет Оксана Васякина в «Оде смерти»[VI]:
мир раскаленный и в нем такие странные дупла
дупла пусты в них заглянуть очень страшно
как если они это тихие скромные ямы могил
распотрошенных сожженных созданий
Дыры и дупла – такие пространства перехода (для души) – феноменологического опыта слома внутри вещи/места, необходимого для того, чтобы раскрыть ее новые, не видимые до этого функции.
Роза в поэтическом сборнике Рымбу представлена как развернутая метафора капиталистической империи, паноптикума и войны. Она наделена многослойным, пахнущим, звучащим телом, в котором тело цветка (бутоны, лепестки, шипы, корни) слито с человеческим (гермафродитным) телом – у неё есть кишечник, дыхание, берцовые кости, желудок, ноздри, горла, головы, губы. Это же тело многослойно просачивается в земные пространства, вмещая в себя все элементы (над)человеческого косма– от колонизированных территорий, военного оружия, цинковых гробов и кладбищенской земли до атрибутов обмена капиталом.
Роза переживает неисчислимые метаморфозы – становясь то новобрачной, то войной (танцпол как плацдарм), с бомбами,газовыми шарами, припудренная радием. За розой-днём–следит садовник, он же победитель, в чьем образе сконцентрирована воинствующая гипермаскулинность, церковная православная догматика и паноптический вездесущий взор, от которого можно спрятаться только ночью. Садовник ликвидирует лишние шипы (как империя подавляет голоса восставших колоний), нормализует ее, удобряет –старой кровью, птичьим языком –анестезией идеологии.
В динамике метаморфоз, подвергаемое воздействию садовника и ядерного дня, тело розы становится полым:
война – это что-то пустое
тошнота почв
– с разбросанными по разным частям косма органами, разорванными связками, связями – телом-оберткой, где коммуникацию глушит безупречность света. И единственный издаваемый ею звук – монотонный ритм, тревожное тиканье – как стучит под кожей нарывающий гнойник или как воет сирена. Этот звук зашивает глаза, умерщвляет.
Толерантными к нему остаются только те, чьи голоса не слышны. Только они видят розу во всем многообразии отправляемых ею сигналов власти:
ее образ идет, и виден
только лишенным
Тогда оказывается, что настырная трансляция обертки, убеждающая спящих в том, что в такой обертке замыкается бытие, –иллюзия; обертка – только проекция розы, которая уходит корнями куда-то глубже – в черноту бессознательного:
Черным капает место, из которого ты появилась
Я думаю о том, что пенопласт не подвержен гниению, но подвержен эрозии – под воздействием ультрафиолета. А значит, также вовлечен в долгий процесс возвращения к всеобщему циклу внеположного субъектом самообновления. И его сияющая цельность иллюзорна настолько, насколько ограничено поле моего восприятия времени. Как если смерть существует только в пределах моей самозамкнутости.
Между словами «З(з)емля» и «почва» есть разница. «E(e)arth»обозначает планету Земля, а также поверхность земли (по которой ходят) и субстанцию, которая составляет верхний слой земной коры. Земля включает почву («solid»). Часто почва искусственно создается людьми благодаря добавлению в землю полезных для растений минеральных удобрений. Почва всегда существует в контексте плодородия.
Федор Достоевский сформулировал неофициальный манифест почвенников в Объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год [VII]. В этом тексте он рассуждает об истории сословного раскола внутри русского общества после реформ Петра Первого, а также о русской миссии – по облагораживанию всей Земли. Особенную роль в этом пути играет народная почва: «Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал»[VIII]. И далее: «мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, … что русская идея будет … синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях»[IX]. Для исполнения этой миссии Федор Достоевский считает необходимым примирение цивилизации с народом путем просвещения последнего. Эту задачу он закрепляет за дворянским сословием. Выходит такой парадокс: будущее России и всей Земли заключено в почве, коей является народ. Народ считает идущую от Петра Первого просвещенческую политику иностранной, то есть чуждой, и всячески противится ее воздействию, сохраняя свою «самобытность». Следовательно, предлагаемая Достоевским просвещенческая политика одновременно нацелена на возвращение «самобытности» (через диалог с «народом») и на ее ликвидацию. Другой способ воссоединения с «народным началом», который был опробован, по Достоевскому, единожды – это внешнее военное противостояние. В этом контексте упоминается Отечественная война 1812 года, когда граница «русского народа» и «русской цивилизации» перенеслась на границу с французской армией. Так война – посредством более глобальной изоляции – позволяет, по Достоевскому, преодолеть вакуум на пути внутренней коммуникации.
Одной из характеристик «народной почвы» Достоевский называет силу непочатую, то есть не начатую. Получается, русский народ – почва, которая никогда еще не плодоносила, и следовательно, находится в ожидании колонизации-оплодотворения благородным семенем русского знания. Такое положение «народа» рифмуется с состоянием «голой жизни», которое Оксана Тимофеева вспоминает[X] вслед за Джорджо Агамбеном. Агамбен рассматривает это состояние на примере клеща, который в течение 18 лет находится в анабиозе в постоянном ожидании стимула к пробуждению – запаха кожи теплокровного животного.
Очевидно, что выдвинутые Достоевским тезисы, нашедшие развитие в целом течении интеллектуальной мысли XIX века, выстроены на тривиальной оппозиции «своего»-«чужого», где пространство «своего» постоянно сужается и сакрализуется, а пространство «чужого» –подвергается насильственному изменению, присваивается или уничтожается. Эта политика создает иллюзию возвращения/оживления идентичности, но пространство такого тотального (само)отчуждения полое – как проекция розы – серая зона анабиоза с бесконечной петлей переумираний и насилия. Потому что у почвы и тем более земли нет народа. Напротив, ее первостепенная функция – recycling – оживление посредством столкновения безымянных «другостей».
В знаменитой теории Геи Джеймс Лавлок отказывается от восприятия Земли как всеобщего дома и называет ее постоянно развивающейся сложной системой, в которой происходит непрерывное взаимообращение живого и мертвого: … Gaia is also the name of the hypothesis of science which postulates that the climate and the composition of the Earth always are close to an optimum for whatever life inhabits it [XI] .Имывсе, утверждаетЛавлок, ейпринадлежим.
То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зёрнам окаменелой пшеницы, -
стихи Осипа Мандельштама из «Нашедшего подкову»[XII]. В этом тексте он деконструирует вертикаль романтического двоемирия, сводя небо и воду к густой субстанции земли и оставляя полой человеческую грезу о небе (или точнее, человеческую «необузданную жажду пространства»):
Воздух замешен так же густо, как земля, —
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.
Лирический герой, в состоянии крайней экзистенциальной уязвимости («Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете»), лишенный надмирной иллюзии и всякого начала-истока-дома, лишенный почвы – движется по хрупкой «неудобной как хребет осла» земле – постоянно обнаруживая недостаточность в себе самом:
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого…
Иными словами, смерти не существует. («но нет мертвецов//они все среди нас поселились»[XIII]).
А существует «притяженье земного лона». Которое рифмуется у Галины Рымбу и Оксаны Васякиной с пространством ночи.
В поэтическом сборнике «Ты – будущее» черный и белый цвета маркируют полярные времена суток, властных дискурсов и частей человеческой психики.
Белый – цвет (само)контроля/цензуры, Нормы, тотальной видимости, где одни (исходя из классовой селекции) всегда доступны наблюдению других и, значит, всегда доступны их насилию. В стихотворении Лучи из третьего раздела сборника моделируется бинарное пространство со строгой иерархией верха-низа, где именно верх является адресатом прямого насилия:
мама я вижу как из твоих ладоней выходят свирепые лучи
они обжигают меня
я закрываю руками голову и не слышу удары
Причем, лучи, или удары, или капли дождя всегда – падают– стремятся воздействовать (линейно высвечивать свои владения) по направлению вниз, но никогда не кверху, как будто во всем этом ослепительном стерильном пространстве нет одного источника света – солнца – этот свет просто стоит как бесконечный распыленный день.
Белый – это цвет автоматизации языка и отчуждения – матери от сына, власти от подчиненных, одного угнетенного от другого. Это цвет, агрессивно воздействующий на любое сообщение шумовой радиацией (необновляемой кровью формул и канцеляризмов) так, что намерение к коммуникации застывает в зияющей разряженной пустоте, оставляя нам неизбежно ложное ощущение себя [XIV], обертку или проекцию, отражающую кукольный герметичный, вылепленный кем-то сверху мир, прорваться из которого невозможно.
В психоаналитической практике существует понятие навязчивых мыслей – тревожного возвращения к определенным обсессиям, часто выражаемое в повторении одних и тех же движений, слов, образов. Прерывание же этого круга и появление возможности концентрироваться на других контекстах внешнего мира связывается с высвобождением сознания субъекта, расширением поля его внутреннего зрения.
Ритмические изменения в поэтическом сборнике часто не только свидетельствуют об изменении субъекта речи, но и маркируют такие навязчивые мысли, выражаясь в фоновом повторении одних и тех же мотивов/битов. С одной стороны, они усиливают эмоциональное воздействие в излагаемых нарративах, как бы оттеняя их (там-там-там в «Розе», долбят-долбят-долбят в тексте о проституции, дух-дух-дух в «Закон не обладает»), с другой, –проводят иную, кажется, инфантильно-искреннюю линию, такое несбыточное ребяческое желание-мантру, близкое к утопии: мама-мама-мама и обними-меня-обними-меня-обними-меня, – эта мантра доносится с той стороны эха-ночи, голосом ребенка, и прорывает границу закупоренного в насилии мира.
Тогда, как и в случае с оберткой розы, оказывается, что неизмеримость насилия-света, его вездесущность иллюзорна хотя бы потому, что существует пространство сна, время ночи – те уголки человеческой психики, куда не добираются лучи разума и где работает беспорядочная анархистская пульсация.
Это пульсация вагины.
В «Оде смерти» Васякиной читаем:
ночь перед моими глазами превращается в дикий
неистовый сад безобразный
я хотела ее для себя объяснить и перепридумать
и другим показать что в ночи нет страшных затей
а только другой распознанный мир
Ночь – время и пространство предельной явленности мира-хаоса, мира-отсутствия и мира отсутствующих (при свете). Мира, в котором работает не навязчивое, приглушенное повторение одного мотива, но гинзберовский Вопль – изнутри экзистенциального ужаса радикальной индивидуации – от видимости которого можно задохнуться, когда все пятнами, смутными группами, когда опыт множественной трансгрессии (сквозь клетку языка-закона [XV]) приводит к краю опыта, к краю переписки и за ее край.
На периферии, в безопасном от наблюдения и насилия пространстве-времени ночи – обширными мазками, развернутыми перечислениями-списками – последовательно называются социально уязвимые и подавляемые группы, как то: человек с ментальным расстройством, бездомный, лишенный собственности, человек с ПТСР, иностранка в националистском обществе, житель из региона, проститутка, любая женщина, приравниваемая к названию лейбла, продукту. Вместе с этими одновременно конкретными и типическими фигурами называются проблемы национализма, низкого прожиточного минимума, насилия в семьях, просто насилия, сексизма, эйджизма, стигматизации ВИЧ-инфекций, гомофобии, отсутствия социальной помощи людям с инвалидностью, матерям и так далее:
это мир.
вот это мир.
И в этом мире – угнетенные тела делят между собой тягучее, никогда не оформленное до конца, но осязаемое коллективноепространство, отмыслившись от мест, перетекая друг в друга и друг другу себя переводя:
Чужое в конце лета всегда кажется ближе.
Я думаю, что земля похожа на память многих переходящих друг в друга тел. В поэтическом сборнике Рымбу присутствуют коровы, эксплуатируемые людьми, «вбитые в землю». Я думаю, что коровы находятся на под землей, а внутри нее. Так появляется «на руинах» жизнь, анемоны становятся стеклом. «Мир очень слабое место чтобы твой взгляд удержать» [XVI].
Земля все помнит. И все, что она помнит, ей не принадлежит.
Список использованной литературы
[I] https://www.etymonline.com/word/recycle#:~:text=recycle%20(v.),figurative%20use%20is%20by%201969
[II] Там же.
[III] Оксана Тимофеева. О душе: растительное, животное, человеческое.
https://youtu.be/Vd0hh_SbW6s
[IV] Оксана Васякина. Штормовые элегии. https://flagi.media/piece/180
[V] Оксана Тимофеева. Это не то. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022. - Стр. 197.
[VI] Оксана Васякина. Рана. М.: Новое литературное обозрение, 2021. – стр. 141-153.
[VII] Фёдор Достоевский. Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год.
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/public/obyavlenie-o-podpiske-na-vremya-1861.htm
[VIII] Там же.
[IX] Там же.
[X] Оксана Тимофеева. Это не то. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022. - Стр. 197.
[XI] What is Gaia? James Lovelock
http://www.ecolo.org/lovelock/what_is_Gaia.html
[XII] Осип Мандельштам. Нашедший подкову
https://www.culture.ru/poems/41780/nashedshii-podkovu
[XIII] Галина Рымбу. Ты – будущее. М.: Центрифуга, Центр Вознесенского, 2022. 222 с.
[XIV] Суркова С. Постулярная феминность: о новой книге стихов Галины Рымбу “Ты будущее”// (https://syg.ma/@elena-gennadievna/postuliruia-fieminnost-o-novoi-knighie-stikhov-galiny-rymbu-ty-budushchieie).
[XV] Масалов А. Шестикнижие // Новое литературное обозрение. 2021. № 172.
[XVI] Оксана Васякина. Рана. М.: Новое литературное обозрение, 2021. – стр. 141-153.

