Маргарита Чекунова
Родилась в Казахстане в 1996-м году. Юность прошла в Тюмени.
Первое образование -- журналист, второе -- филолог.
Член Союза писателей России с 2019-го года, автор ЧЕТЫРЁХ КНИГ пОЭЗИИ.
Печаталась в журналах «Новый современник», «Литературное обозрение», «45-я параллель», дР.
Стихи Переводились на Французский язык.
Переводчица с французского.
Лонг-лист премии «Лицей» (2021 год).
====================================================================================================
ССЫЛКИ НА ПУБЛИКАЦИИ:
1. 45-я параллель: 45parallel.net/margarita_chekunova/
2. Полутона: polutona.ru/?show=margarita
3.Переводчик с небесного. Лит-web. Литературный портал: lit-web.net/margarita-chekunova-perevodchik-s-nebesnogo/
4. Журнальный мир: xn--80alhdjhdcxhy5hl.xn--p1ai/avtor/chekunova-margarita
5. Бельские просторы: belprost.ru/articles/poeziya/2020-04-28/4-2020-margarita-chekunova-dom-iz-schepok-stihi-136489
6. В пункте "Т": m.ok.ru/group/54012661071974/topic/67587412688998
7. Иновремёнка (из ранних публикаций): tumentoday.ru/2014/11/27/Iz-vsednevnoj-gonki-svoj-kroit-pejzazh/
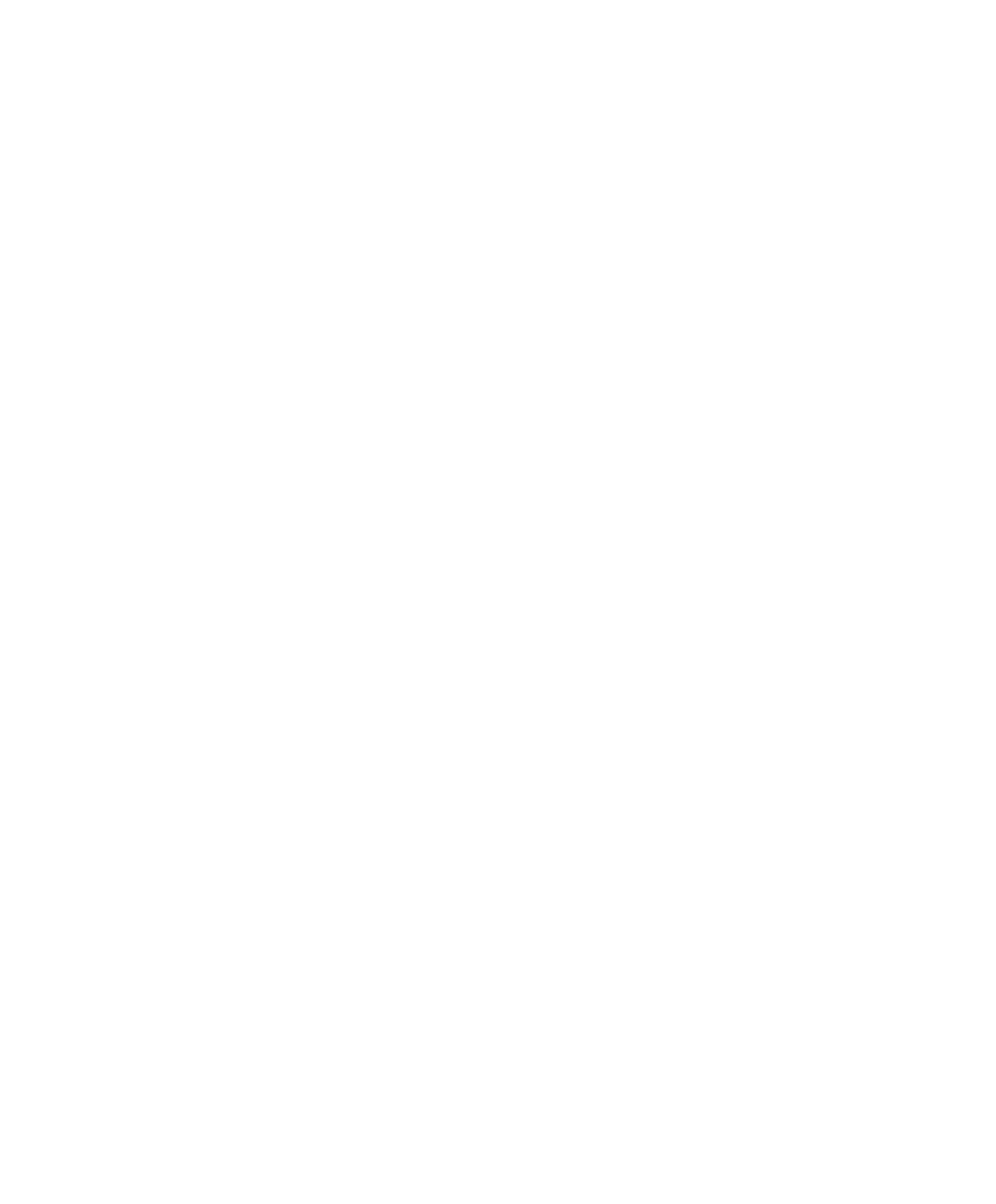
***
Я — Билли Миллиган.
Герой жёлтой прессы,
почти обессилен,
не пойман полицией,
желанием скрыться
подавлен.
Так про меня писали.
Во мне повернулось такое количество
голов,
символично разнонаправленных,
неуличенных,
необезличенных,
и если я все ещё вам непривычен,
возьмите мой взгляд,
ладонью, глазами,
пожалуйста, не уроните,
пока не пришла смена караула
в золотой пелене
зеркального взгляда,
пока я здесь.
Рулевой на море,
а вы в моей жизни!
Примите меня, положите
холодный лёд на странно горящий лоб,
поскольку минуту спустя
меня сменят.
Я буду измерен!
Я только песчинка в истерике бури.
И в этих глазах, в карауле
появится новый, седой секундант,
мой парадируя шаг ненамеренно
и говорящий попеременно:
"Я Билли Миллиган, я! Будет так!"
Послушайте!
Как это странно,
хотя и бессмысленно,
но очень похоже
на гололёд, шквал, цунами!
И где буду я
в этот момент,
когда в глубине коридора
из тысячи серых туннельных путей
двух глаз, отражающих шорох,
как сантимент,
придёт она.
Полётна, бледна,
усиленно демонстративна
и скажет:
"Теперь я должна
признаться, что я — Билли Миллиган"?
Где буду я? Вопрос,
такой же холодный,
как сонм ледников в мировом океане!
Как это похоже на шквал, гололёд, цунами,
как странно фиксировать этот момент
внезапности
шага,
сокрытой щели,
и превращения
в них.
Могущество и досада!
Но я хочу в Рай, и мне не хотелось бы Ада.
Что делать таким количеством
личностей,
несхематично
устроенных?
Я всё же хотел стать героем,
героем не жёлтой прессы,
где ярко напишут, что это феномен,
который весьма не удобен —
один человек, вмещающий двадцать персон, —
там,
за вязанным свитером
или пределом
тончайшей кожи,
и эти персоны совсем не похожи.
Скажите, быть может, я буду спасён,
сумею такой коллектив растворить в своей воле?
Но все они, все они здесь для того ли?
И кто я, решив запретить
цепочку этих прекрасных шагов?
Примите меня! Не дайте исчезнуть
в этой холодной весне,
стать тенью огромного колеса.
Пока не явился другой,
взгляните в мои глаза,
и если вам скучно,
и жизнь однобока,
я вас прошу,
прошу, ради Бога,
придите ко мне.
"Ко мне"
"Ко мне...."
"Ко мне...."
Преображение
Я прочитала это слово как «метаморфоз»,
и августовский луч падал с лестницы,
вздрагивая от моего взгляда.
Страшная сила перевода!
Из всех возможных слов
Я боялась слова "превращение",
в нём есть вращение
и пневма.
Но чаще — вращение и ткань.
А это
бесчувственно
по отношению к тем,
у кого
розовая кожа
и детская мечта.
И контуры, тени, и вода и дорогие металлы
претворяются лишь посредством
взгляда творящего,
мелькнувшего
над герцогством
зеркального
двойника.
Выйди и посмотри на меня!
От этого приходит солнце.
Августовская тень
отправляется в горы.
Небесный реконструктор переставляет облака.
Небесный дирижёр управляет галактиками.
А смена формы слова — это морфология.
***
Мне нравится то,
как играют домристы,
и все, кто владеет
древнейшей арфой.
В руках у них ветер,
шуршащий, столистый:
их вряд ли заботят
условности арта.
В их музыке —
кроны деревьев и сопки,
замëрзшие ветви
и горные шпили.
Они утопают, как тысячи зорких,
в холодном, нечëтком
тумане и штиле.
Их звук раздаëтся
неправильным эхом.
Синхронным
и с этим — божественно верным.
Как будто,
не думая сделаться гордым,
мальчишка —
король и не знает об этом.
Кого накрывает несмертное
(чувство?)
кого не заботит случайное
(вид?)
Кто смотрит сквозь штиль,
а не катит болид?
Вы те, кто не знает себя в искусстве,
и в это же время его творит.
Вы те, кто трогает рожь, а не струны,
а мы вместе с вами, и хипстерски юный,
приходит он — катарсис,
или
иное?
Вы те, кто не может сказать про больное,
поскольку
божественно
ярко
болит.
***
«Но никогда я не был тем из вас,
кто был из вас и кто умел мириться
с извечной разделённостью во всём.
Но ты не примиришься, мы похожи.
Ты говоришь: вот камень, вот песок,
вот плеск холодных волн, неторопливость смирившихся с погодой серых птиц.
Вот ты — как данность, ты же — как миракль. Хроническая неосуществлённость.
И ревность закричит в твоей душе
по неосуществленному началу.
Есть тень, вода, дыхание, стопа —
вот всё, что у тебя с землёй, запомни:
не стоит так бояться чёрных стоп
и ощупей себя, в твоей природе
есть много не осмысленного мной,
а сам себе ты вовсе не разгадан.
Ещё останься: я тебя прошу
ты будь сухим, горячим, как огонь,
не влажным, нет! Ты обречён на подвиг,
а значит, дело в сухости дыхания,
а вовсе не во влажном шарме слов.
Слеза — иное. У тебя я вижу
всё это постоянно. Это всë
так чисто, говорим: освобождение»
Так он лежал, валялся на траве,
вертел в своих руках обрывки жёлтых
и красных листьев, и смотрел в глаза
огромным небесам, и часто думал:
— Ну почему слышу этот голос?
И кто я, чтобы слышать и молчать?.

