Кирилл Чайкин
Родился в 1999 году в Воронеже.
Живёт в Санкт-Петербурге.
Писатель, независимый исследователь.
Публиковал тексты в сетевых журналах и в журнале поэзии «Воздух».
Живёт в Санкт-Петербурге.
Писатель, независимый исследователь.
Публиковал тексты в сетевых журналах и в журнале поэзии «Воздух».
Очертания признака
(фрагмент повести «Исповедальные утки»)
(фрагмент повести «Исповедальные утки»)
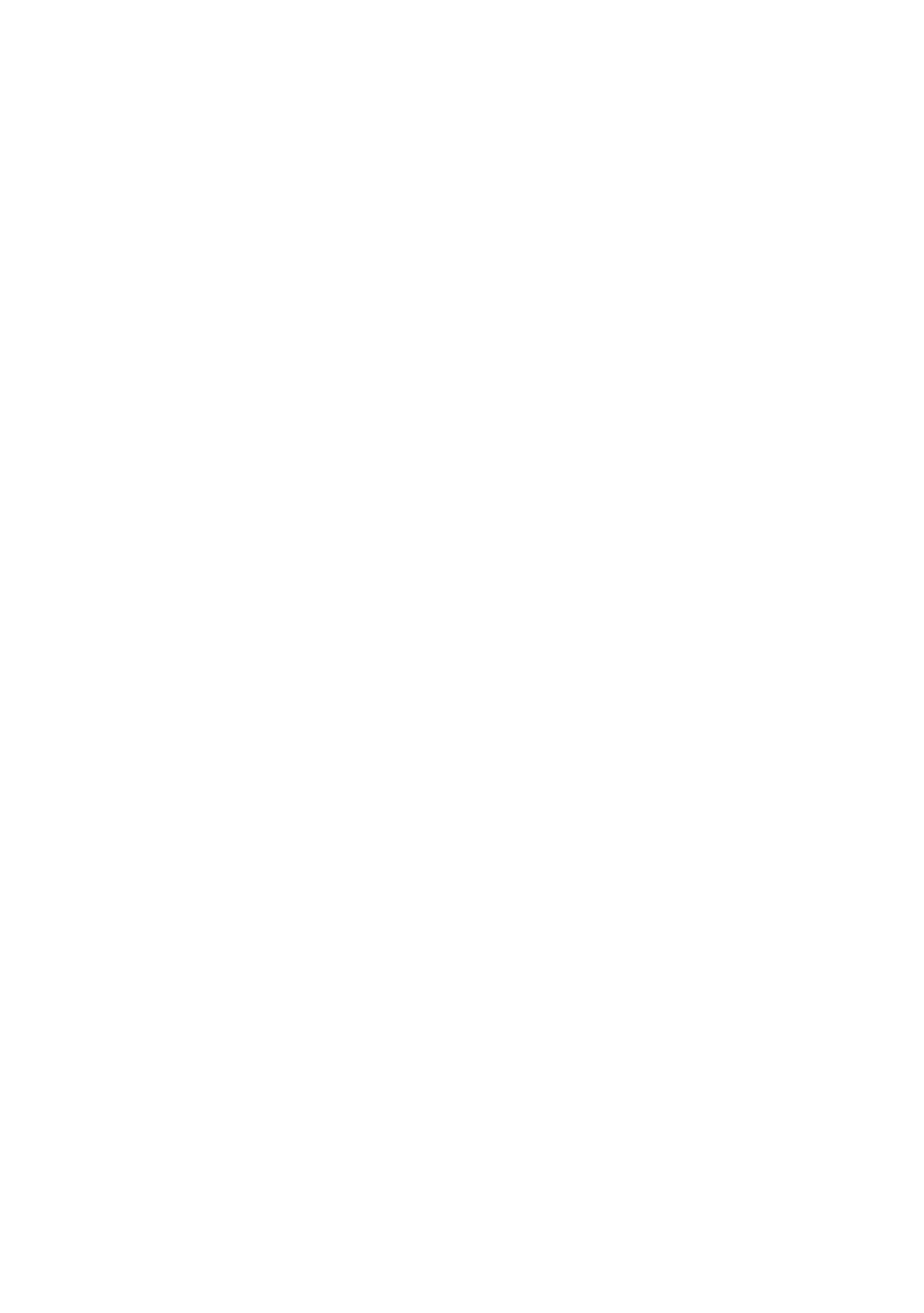
Текст переместился в южную часть Петербурга. Злобный Губитель и автор покинули Волковское кладбище ради эсхатологической прогулки – для такого пешего путешествия, в котором не будет ни одного следа эзотерики и метафизики. Однако соотношение сил в мире резко переменилось: пока автор был занят составлением каталогов форм цветения рябины в Купчино, Злобный Губитель вернулся к Матери Клопов, – и непростое это было возвращение, и земля вопила о какой-то чудовищной глупости, о непостижимости конца, о сладострастии в худшем его проявлении.
Мать Клопов составляет не просто образ-отречение. Она – первейший элемент космоса, с которым автор никогда не должен соприкасаться.
Матери Клопов противна поэзия и проза.
Мать Клопов ненавидит птиц и кладбища.
Мать Клопов рассыпает мелких жучков во всех коммуналках Петербурга.
Мать Клопов однажды продавала мебель одной из дочерей Крысиного короля.
Мать Клопов вечно клеймит Злобного Губителя за пассивность и герметичность, когда сама не может покинуть пределов его квартиры.
Мать Клопов разводит стаи хищных пьенотов – они кружат вокруг Губителя, а бедный и не знает, что ему делать в тоскливом мире клопов и мебели.
Мать Клопов ужасно образованна, и автору приходилось размещать в районе ушных раковин маленькие сеточки, дабы никогда не изменять своему чувству презрительной тоски.
Мать Клопов никогда не изменится, не станет иным содержанием себя, из неё никогда не собрать текста – лишь собрания патологий измученного существования, от которых автор сбежит без оглядок сожаления и спекулятивных сомнений.
Изначально автор не планировал выстраивать линию взаимодействия с Матерью Клопов. Автор помнил невыносимые стенания Злобного Губителя: Мать Клопов ходила по его лицу, заставляла есть консервы с чаем, просила распыляться тысячами речей богобоязненного абсурда в попытках воззвать к её потерянному чувству такта. Зачатки поэтической непрекословности выдавали Мать Клопов за несколько озорную женщину с богемным прошлым; но не очаровывайтесь этим образом, пока стремительные призраки литературного аффекта не изъяли ваше сознание от трагического уклона этой повести.
Автор был жалкой имманентностью, изнанкой человека в глазах Матери Клопов –усталым интеллигентским идиотом с невнятным аристократическим содержанием. Презренный, вечно начитанныф идиот-ипохондрик со страстным взглядом. Разумеется, вспышки женского интерес в глазах Матери Клопов никогда не оставались взаимными. И опасен был этот взгляд, ибо в женской природе автор искал нечто большее, чем мимолётное желание и внутреннюю тоску.
Чего не скажешь о Злобном Губителе. Этот вечный раб никак не мог забыть её вагинальных объятий, увенчанных распитием водки – вечное возвращение в бесконечном цикле однообразного секса и скромных предпочтений в алкоголе. И как только Злобный Губитель был готов покинуть цикл, совершить праведный исход в мир абсолютного доверия к жизни – случалась великая трагедия, в которой пьеноты атаковали тело Губителя, затем наступала мистическая рекурсия, а после – снова: цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл…
Пьеноты всегда атакуют внезапно. Сначала они окружают Губителя, крохотными лапками отчаяния, покрывают всё его тело, начинают кружить вокруг него, на нём и вне его, заставляя вращаться Злобного Губителя вокруг собственной оси, расшатывая и искривляя шаткое небытие. И вот – это уже не ось небытия, а изогнутое кольцо отсутствия, созерцающее свой конец и своё начало.
Изогнутая ось отсутствия не видит ничего – метафизика личного безумия, шизофреническая жажда закрытости. Явление самопожирания: начало не терпит свой конец, а концу нестерпимо больно наблюдать за началом. Тревожность начала и горечь конца требуют от бедного раба материального космоса повиновения перед внешними силами необходимости: он снова возобновляет мерзкий цикл в кругу Матери Клопов, пьенотов, водки и вагинальных объятий.
Автора связывает с Матерью Клопов большой онтологический инцидент. Рассказ о нём – малый цветочек Св. Антония, сорвав который автор станет ближе к идеалу эстетического отшельника. Нужно немедленно избавиться от всего ненужного, что мешает автору возвеличить внутренне благородство перед лицом наивно-скотской реальности.
В какой-то момент Злобный Губитель позвал автора в свою квартиру – колыбель мук с мочеиспусканием на цветы и блевотиной на паркете. Великое благо, что автору пришлось там находиться недолго. В низостях квартирного дискурса обитало имманентное бешенство: Мать Клопов что-то невнятно чавкала про язык и Витгенштейна – и вот уже перед глазами автора разворачивается апокалиптическая картина, как Ильин самым недоступным для воображения способом рисует в воздухе руну «ᛟ», как контексты бытового садизма становятся основанием государственной политики, а геополитические контексты отпечатываются на лице Злобного Губителя – Мать Клопов била его пяткой по лицу каждый раз, а он, несчастный, пытался прервать её потоки неподконтрольного озлобления.
Соотношение мерзости и скотства стало невозможно выносить. Не дожидаясь развязки монолога Матери Клопов, автор накинул на себя пальто, надел клетчатую серую фуражку на отяжелевшую голову – и удалился, исчез, растворился в последнем издыхании осеннего Петербурга.
В последнем листопаде поздней осени проявляются лучшие черты природной самоданности. Так природа поэтизирует свою динамику: в ней нет упадка, нет рефлексии собственного содержания – только благородное самосозерцание, аристократическая гармония всеединства и самодостаточности.
Автор стремится к подобной самодостаточности. Эстетические образы должны испускаться собственными крючками, как листья на лепнине. Пытается ли автор быть эстетствующим отшельником? Во всяком случае известно, что автор стремится возвеличить внутреннее восхищение силой и полнотой жизни – жажду беспредельного внутреннего одиночества, где единственный достойный собеседник – утки, чьё алтарное кряканье имеет прямое отношение к вечности.
Благообразный холод сентября напоминает о чём-то ускользающем. Это уже не ласковая прохлада летнего ветерка. Осенний ветер Петербурга пробивает автора на озноб, заставляя плотнее прижимать пальто к телу: сначала следует положить правую руку на сердце, а левой аккуратно раскачивать немецкую сумку в такт своим движениям – довольно скупая система жестов и риторики. Писатель Александр Ильянен как-то говорил, что нет ничего важнее, чем жесты и риторика. Автор чувствует, как чуждые ему нагромождения нелепых словес падают в мир холодного всеспасения осени. Следует немедленно прекратить испытывать границы собственной богемной развязности и удалиться в кабинет недалеко от набережной Шмидта для дальнейшего составления каталогов образов-отречений. Но ещё чего-то не хватало. Кружева повести заплетаются в явлении душевного простора и бескомпромиссного уединения, и сам автор, чувствуя окружавший его напор неспокойствия со стороны текста, чьи контаминации грозили обрушением стальных балок небес, – и прямо на голову автора, – мог лишь непрерывно думать об утках.
Сын Мерзости
В повести наконец воцарился царственный покой, свободный от догматических сомнений осени, и автор снова воспринял мир в качестве приключения. Отсутствие Матери Клопов наполнило день радостью и почти пасхальным трепетом. Орнаменты скорби ушли за горизонт – в обитель прячущегося заката.
Чего же больше было в этой скорби? Потаённости? Дневной тоски по потерянному времени детства? Горечи расставания? Благоуханного конца пёстрых красок первой влюблённости?
Всё смешалось в кучу. Повесть стремится уйти от композиционной печали вечного возвращения, благо талант автора к этому располагает. Не думайте, что высокомерие автора избыточно для повести – в ней скоро зацветут зимние искривления причудливой реальности Петербурга, объятые почти феноменологическим покоем усталого сознания. Магия почти бесконтрольно сочится из текста, а архитектура модерна вопит о собственном избытке.
В этой повести нет смерти, нет колоколов звенящей скорби. Есть лишь белизна утренней ряби, в отражении которой нет ничего лишнего – всё остальное ушло, остались только образы, слезливые отпечатки на лице автора – он будет демонстрировать их уткам. Но не сейчас.
С позиции бескрайних колониальных миль автору предстоит вспомнить трогательный призрак Сына Мерзости. Призрак этот напоминал давление летнего солнца на веки, и когда прятал он свои эфирные телеса куда-то в колодцы Сенной – оставалась лишь белизна в глазах и головной туман от его блеска.
Главный вопрос: существовал ли Сын Мерзости?
У Сына Мерзости не было тела – только неясная дымка светлой печали.
Сын Мерзости повиновался магнетическим законам космоса, видел в мировых закономерностях и политических ориенталях воздействие Потаённого Дизентегратора.
Сын Мерзости обладал некоторой аскетичностью: ходил лишь в определённые бары, клубы, не ел бананов, груш, не пил кофе, пива и не интересовался женщинами – всю полноту своей остаточной телесности он делегировал во власть другим мужчинам.
Сын Мерзости был философом, как и автор. Но Сын Мерзости ненавидел плести крючковатые логики радикальной концептуализации. Философ, ненавидящий философию.
Каждое действие, каждое начинание или нечаянная задумка Сына Мерзости была обречена на провал.
Любой жест Сына Мерзости не оставлял никаких следов в этом мире. Он не мог никак воздействовать на материю, а любые его следы быстро утаивались чем-то неподвластным для мысли.
Автор взялся за дело решительно: необходимо схватить невидимое, зафиксировать в этом мире то, что стремится его покинуть. В ясной полутьме, в белёсых очертаниях полуденной пыли, в ярости и тоске, в красных скоплениях мозаичного утра, в светозары плетениях трещин первого льда, в размеренности и непокое, в явлениях и пустоте, в скромности и радикальности, в печали и радости, в поэзии и прозе, в стихах и поэмах, в новеллах и рассказах, в повестях и романах, в подворотнях и на богемных встречах, в университете и василеостровском общежитии, в любви и предательстве, в качестве и различие, в именах и перечислениях, в Петербурге и всей остальной России, в онтологии и социальной философии, в математической логике и в банальностях языка, в сладострастии и лени, в религии и необъятности – везде автор встречал плесневелых запах Сына Мерзости.
Здоровый эзотеризм полезен для любого интеллектуала, особенно ясны его очертания, когда он становится словесным подспорьем для вкрадчивых действий. Демиургические принципы дезинтеграции владели Сыном Мерзости, шептали невероятные сюиты неповиновения миру без попыток бегства из него. В отношениях Сына Мерзости и автора творилась настоящая теургия непознанной свободы, в которой не было и намёка на необходимость. Помнится, как-то Сын Мерзости расчертил теоретическую картографию своих действий.
Теоретическое обоснование: несуществует никакой эпистемологии и теории познания. Любая онтология подчинена законам социального, где у социума отсутствуют любые общественные универсалии. Личность здесь – призрак социальной вседозволенности, которым и был Сын Мерзости.
Сын Мерзости начинает свою речь с общих планов – совершает большой пролёт над перспективой всей повести, погружается в зеленоватую глубину текста – и прямо в ледяную воду, и она, как тень времени или орнамент катастрофы, разглаживает по краям рукопись автора. Свет от речи стоит куском материи в горле – и падает этот кусок: в городскую данность, язык и смерть. Музыка сыпется порошком через крупную сеть веток деревьев на гладь асфальта, простирающегося под каждым шагом кончика языка по полости рта – илюбой из этих шагов, вероятно, последний. В этой полости возникают люди, здания, кромки деревьев Котлина – и воздух обжигающе-изначальный. Он напылён где-то по краям, просвечивает скоплениями вихрей, расцветая в полёте – очередным шагом языка давит на подножие дня. Рука автора в этот момент укрепляется в признаке, ослабляет сжатие пера, пребывая в присутствии чего-то нестерпимо великого.
Всё сказанное Сыном Мерзости растворяется в погодной предметности, ибо таков он – вечная апория, любимый цветочек Св. Антония, блестяще-бедная куртизанка ноосферы, неповторимый певец саморазрушения, обречённый на крах – и не отразимый в изяществе своего падения. И сам процесс падения, приближённый в рассмотрении перинатальных выпуклостей пейзажа, покрывал повесть неравномерной струйкой прохладного воздуха, разделял меж собой буквы, образуя видимый контраст слов.
Вид разорванности – три здания советского конструктивизма, как неровные глаза Васильевского острова. Нева в разбитых слезинках, и плитка историческая хрустит под ногами, и злые парфюмерные вздохи над словесами автора. Повесть и нагромождения её вскипают где-то в центральном районе – прямо у подножия Сфинксов, в остаточных материалах Академии художеств. Спускаясь к воде, буквы разрезают гладь, как утки, уплывая за горизонтальное измерение пейзажа.
Теперь всё стало ясно: день, веки, ключицы, текст, душевная хворь, спицы, отверстия. Фантазмы угасания. Птичьи иллюминации всецветения. Белый контраст света, схематизм пространства и деление на векторы, лежащие на письменном столе автора, направляющие скованность восприятия к одержимости чтением. Оно становится источником демаркации речи.
Аркадий Драгомощенко смотрит в окно, курит. Белые нити дыма, спрягая его город, коптят небеса. То, что покрывает его рука пылью времён. Зимой, когда из под земли вырастает лёд, не услышать звуков спасения. Вы: дальняя тень, оставленные куски забывания, толстая корка пустыни.
Луна искусала свою синеву. На её щеках пунцовым веером вырывается свобода, исполненная знаком величественной кроткости. Чувство наполненности разгоняет венозную паутину концентратом альпийского мёда. Тысячи огней сознания колышат фитиль мировой тоски, без которого так громко и неспокойно на этой земле. Всеуслышанная месса уток придаёт любому событию форму немедленного растворения, оправдывая жестокость каменной насыпи в отношении почвы. Звучит магический колокольчик. Нева ослабляет течение, обращаясь изысканной изнанкой оборотной стороны зеркала. И здесь уже нет перспективы, и тьма не знает пределов статуй. (Она более не парит, лишь прячится в утином оперении. Но даже так: хоть под водой или после пробуждения от реальности: утка, ставшая песком – взлетает.)
Мать Клопов составляет не просто образ-отречение. Она – первейший элемент космоса, с которым автор никогда не должен соприкасаться.
Матери Клопов противна поэзия и проза.
Мать Клопов ненавидит птиц и кладбища.
Мать Клопов рассыпает мелких жучков во всех коммуналках Петербурга.
Мать Клопов однажды продавала мебель одной из дочерей Крысиного короля.
Мать Клопов вечно клеймит Злобного Губителя за пассивность и герметичность, когда сама не может покинуть пределов его квартиры.
Мать Клопов разводит стаи хищных пьенотов – они кружат вокруг Губителя, а бедный и не знает, что ему делать в тоскливом мире клопов и мебели.
Мать Клопов ужасно образованна, и автору приходилось размещать в районе ушных раковин маленькие сеточки, дабы никогда не изменять своему чувству презрительной тоски.
Мать Клопов никогда не изменится, не станет иным содержанием себя, из неё никогда не собрать текста – лишь собрания патологий измученного существования, от которых автор сбежит без оглядок сожаления и спекулятивных сомнений.
Изначально автор не планировал выстраивать линию взаимодействия с Матерью Клопов. Автор помнил невыносимые стенания Злобного Губителя: Мать Клопов ходила по его лицу, заставляла есть консервы с чаем, просила распыляться тысячами речей богобоязненного абсурда в попытках воззвать к её потерянному чувству такта. Зачатки поэтической непрекословности выдавали Мать Клопов за несколько озорную женщину с богемным прошлым; но не очаровывайтесь этим образом, пока стремительные призраки литературного аффекта не изъяли ваше сознание от трагического уклона этой повести.
Автор был жалкой имманентностью, изнанкой человека в глазах Матери Клопов –усталым интеллигентским идиотом с невнятным аристократическим содержанием. Презренный, вечно начитанныф идиот-ипохондрик со страстным взглядом. Разумеется, вспышки женского интерес в глазах Матери Клопов никогда не оставались взаимными. И опасен был этот взгляд, ибо в женской природе автор искал нечто большее, чем мимолётное желание и внутреннюю тоску.
Чего не скажешь о Злобном Губителе. Этот вечный раб никак не мог забыть её вагинальных объятий, увенчанных распитием водки – вечное возвращение в бесконечном цикле однообразного секса и скромных предпочтений в алкоголе. И как только Злобный Губитель был готов покинуть цикл, совершить праведный исход в мир абсолютного доверия к жизни – случалась великая трагедия, в которой пьеноты атаковали тело Губителя, затем наступала мистическая рекурсия, а после – снова: цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл, цикл…
Пьеноты всегда атакуют внезапно. Сначала они окружают Губителя, крохотными лапками отчаяния, покрывают всё его тело, начинают кружить вокруг него, на нём и вне его, заставляя вращаться Злобного Губителя вокруг собственной оси, расшатывая и искривляя шаткое небытие. И вот – это уже не ось небытия, а изогнутое кольцо отсутствия, созерцающее свой конец и своё начало.
Изогнутая ось отсутствия не видит ничего – метафизика личного безумия, шизофреническая жажда закрытости. Явление самопожирания: начало не терпит свой конец, а концу нестерпимо больно наблюдать за началом. Тревожность начала и горечь конца требуют от бедного раба материального космоса повиновения перед внешними силами необходимости: он снова возобновляет мерзкий цикл в кругу Матери Клопов, пьенотов, водки и вагинальных объятий.
Автора связывает с Матерью Клопов большой онтологический инцидент. Рассказ о нём – малый цветочек Св. Антония, сорвав который автор станет ближе к идеалу эстетического отшельника. Нужно немедленно избавиться от всего ненужного, что мешает автору возвеличить внутренне благородство перед лицом наивно-скотской реальности.
В какой-то момент Злобный Губитель позвал автора в свою квартиру – колыбель мук с мочеиспусканием на цветы и блевотиной на паркете. Великое благо, что автору пришлось там находиться недолго. В низостях квартирного дискурса обитало имманентное бешенство: Мать Клопов что-то невнятно чавкала про язык и Витгенштейна – и вот уже перед глазами автора разворачивается апокалиптическая картина, как Ильин самым недоступным для воображения способом рисует в воздухе руну «ᛟ», как контексты бытового садизма становятся основанием государственной политики, а геополитические контексты отпечатываются на лице Злобного Губителя – Мать Клопов била его пяткой по лицу каждый раз, а он, несчастный, пытался прервать её потоки неподконтрольного озлобления.
Соотношение мерзости и скотства стало невозможно выносить. Не дожидаясь развязки монолога Матери Клопов, автор накинул на себя пальто, надел клетчатую серую фуражку на отяжелевшую голову – и удалился, исчез, растворился в последнем издыхании осеннего Петербурга.
В последнем листопаде поздней осени проявляются лучшие черты природной самоданности. Так природа поэтизирует свою динамику: в ней нет упадка, нет рефлексии собственного содержания – только благородное самосозерцание, аристократическая гармония всеединства и самодостаточности.
Автор стремится к подобной самодостаточности. Эстетические образы должны испускаться собственными крючками, как листья на лепнине. Пытается ли автор быть эстетствующим отшельником? Во всяком случае известно, что автор стремится возвеличить внутреннее восхищение силой и полнотой жизни – жажду беспредельного внутреннего одиночества, где единственный достойный собеседник – утки, чьё алтарное кряканье имеет прямое отношение к вечности.
Благообразный холод сентября напоминает о чём-то ускользающем. Это уже не ласковая прохлада летнего ветерка. Осенний ветер Петербурга пробивает автора на озноб, заставляя плотнее прижимать пальто к телу: сначала следует положить правую руку на сердце, а левой аккуратно раскачивать немецкую сумку в такт своим движениям – довольно скупая система жестов и риторики. Писатель Александр Ильянен как-то говорил, что нет ничего важнее, чем жесты и риторика. Автор чувствует, как чуждые ему нагромождения нелепых словес падают в мир холодного всеспасения осени. Следует немедленно прекратить испытывать границы собственной богемной развязности и удалиться в кабинет недалеко от набережной Шмидта для дальнейшего составления каталогов образов-отречений. Но ещё чего-то не хватало. Кружева повести заплетаются в явлении душевного простора и бескомпромиссного уединения, и сам автор, чувствуя окружавший его напор неспокойствия со стороны текста, чьи контаминации грозили обрушением стальных балок небес, – и прямо на голову автора, – мог лишь непрерывно думать об утках.
Сын Мерзости
В повести наконец воцарился царственный покой, свободный от догматических сомнений осени, и автор снова воспринял мир в качестве приключения. Отсутствие Матери Клопов наполнило день радостью и почти пасхальным трепетом. Орнаменты скорби ушли за горизонт – в обитель прячущегося заката.
Чего же больше было в этой скорби? Потаённости? Дневной тоски по потерянному времени детства? Горечи расставания? Благоуханного конца пёстрых красок первой влюблённости?
Всё смешалось в кучу. Повесть стремится уйти от композиционной печали вечного возвращения, благо талант автора к этому располагает. Не думайте, что высокомерие автора избыточно для повести – в ней скоро зацветут зимние искривления причудливой реальности Петербурга, объятые почти феноменологическим покоем усталого сознания. Магия почти бесконтрольно сочится из текста, а архитектура модерна вопит о собственном избытке.
В этой повести нет смерти, нет колоколов звенящей скорби. Есть лишь белизна утренней ряби, в отражении которой нет ничего лишнего – всё остальное ушло, остались только образы, слезливые отпечатки на лице автора – он будет демонстрировать их уткам. Но не сейчас.
С позиции бескрайних колониальных миль автору предстоит вспомнить трогательный призрак Сына Мерзости. Призрак этот напоминал давление летнего солнца на веки, и когда прятал он свои эфирные телеса куда-то в колодцы Сенной – оставалась лишь белизна в глазах и головной туман от его блеска.
Главный вопрос: существовал ли Сын Мерзости?
У Сына Мерзости не было тела – только неясная дымка светлой печали.
Сын Мерзости повиновался магнетическим законам космоса, видел в мировых закономерностях и политических ориенталях воздействие Потаённого Дизентегратора.
Сын Мерзости обладал некоторой аскетичностью: ходил лишь в определённые бары, клубы, не ел бананов, груш, не пил кофе, пива и не интересовался женщинами – всю полноту своей остаточной телесности он делегировал во власть другим мужчинам.
Сын Мерзости был философом, как и автор. Но Сын Мерзости ненавидел плести крючковатые логики радикальной концептуализации. Философ, ненавидящий философию.
Каждое действие, каждое начинание или нечаянная задумка Сына Мерзости была обречена на провал.
Любой жест Сына Мерзости не оставлял никаких следов в этом мире. Он не мог никак воздействовать на материю, а любые его следы быстро утаивались чем-то неподвластным для мысли.
Автор взялся за дело решительно: необходимо схватить невидимое, зафиксировать в этом мире то, что стремится его покинуть. В ясной полутьме, в белёсых очертаниях полуденной пыли, в ярости и тоске, в красных скоплениях мозаичного утра, в светозары плетениях трещин первого льда, в размеренности и непокое, в явлениях и пустоте, в скромности и радикальности, в печали и радости, в поэзии и прозе, в стихах и поэмах, в новеллах и рассказах, в повестях и романах, в подворотнях и на богемных встречах, в университете и василеостровском общежитии, в любви и предательстве, в качестве и различие, в именах и перечислениях, в Петербурге и всей остальной России, в онтологии и социальной философии, в математической логике и в банальностях языка, в сладострастии и лени, в религии и необъятности – везде автор встречал плесневелых запах Сына Мерзости.
Здоровый эзотеризм полезен для любого интеллектуала, особенно ясны его очертания, когда он становится словесным подспорьем для вкрадчивых действий. Демиургические принципы дезинтеграции владели Сыном Мерзости, шептали невероятные сюиты неповиновения миру без попыток бегства из него. В отношениях Сына Мерзости и автора творилась настоящая теургия непознанной свободы, в которой не было и намёка на необходимость. Помнится, как-то Сын Мерзости расчертил теоретическую картографию своих действий.
Теоретическое обоснование: несуществует никакой эпистемологии и теории познания. Любая онтология подчинена законам социального, где у социума отсутствуют любые общественные универсалии. Личность здесь – призрак социальной вседозволенности, которым и был Сын Мерзости.
Сын Мерзости начинает свою речь с общих планов – совершает большой пролёт над перспективой всей повести, погружается в зеленоватую глубину текста – и прямо в ледяную воду, и она, как тень времени или орнамент катастрофы, разглаживает по краям рукопись автора. Свет от речи стоит куском материи в горле – и падает этот кусок: в городскую данность, язык и смерть. Музыка сыпется порошком через крупную сеть веток деревьев на гладь асфальта, простирающегося под каждым шагом кончика языка по полости рта – илюбой из этих шагов, вероятно, последний. В этой полости возникают люди, здания, кромки деревьев Котлина – и воздух обжигающе-изначальный. Он напылён где-то по краям, просвечивает скоплениями вихрей, расцветая в полёте – очередным шагом языка давит на подножие дня. Рука автора в этот момент укрепляется в признаке, ослабляет сжатие пера, пребывая в присутствии чего-то нестерпимо великого.
Всё сказанное Сыном Мерзости растворяется в погодной предметности, ибо таков он – вечная апория, любимый цветочек Св. Антония, блестяще-бедная куртизанка ноосферы, неповторимый певец саморазрушения, обречённый на крах – и не отразимый в изяществе своего падения. И сам процесс падения, приближённый в рассмотрении перинатальных выпуклостей пейзажа, покрывал повесть неравномерной струйкой прохладного воздуха, разделял меж собой буквы, образуя видимый контраст слов.
Вид разорванности – три здания советского конструктивизма, как неровные глаза Васильевского острова. Нева в разбитых слезинках, и плитка историческая хрустит под ногами, и злые парфюмерные вздохи над словесами автора. Повесть и нагромождения её вскипают где-то в центральном районе – прямо у подножия Сфинксов, в остаточных материалах Академии художеств. Спускаясь к воде, буквы разрезают гладь, как утки, уплывая за горизонтальное измерение пейзажа.
Теперь всё стало ясно: день, веки, ключицы, текст, душевная хворь, спицы, отверстия. Фантазмы угасания. Птичьи иллюминации всецветения. Белый контраст света, схематизм пространства и деление на векторы, лежащие на письменном столе автора, направляющие скованность восприятия к одержимости чтением. Оно становится источником демаркации речи.
Аркадий Драгомощенко смотрит в окно, курит. Белые нити дыма, спрягая его город, коптят небеса. То, что покрывает его рука пылью времён. Зимой, когда из под земли вырастает лёд, не услышать звуков спасения. Вы: дальняя тень, оставленные куски забывания, толстая корка пустыни.
Луна искусала свою синеву. На её щеках пунцовым веером вырывается свобода, исполненная знаком величественной кроткости. Чувство наполненности разгоняет венозную паутину концентратом альпийского мёда. Тысячи огней сознания колышат фитиль мировой тоски, без которого так громко и неспокойно на этой земле. Всеуслышанная месса уток придаёт любому событию форму немедленного растворения, оправдывая жестокость каменной насыпи в отношении почвы. Звучит магический колокольчик. Нева ослабляет течение, обращаясь изысканной изнанкой оборотной стороны зеркала. И здесь уже нет перспективы, и тьма не знает пределов статуй. (Она более не парит, лишь прячится в утином оперении. Но даже так: хоть под водой или после пробуждения от реальности: утка, ставшая песком – взлетает.)

