Леон Блуа
«Фрагменты» (перевод Всегда Снега)
Леон Блуа — явление силы, а не слабости, и в этом он бесконечно отличается от Гюисманса, которого он так несправедливо не любил и не признавал, хотя во многом должен был чувствовать родство с ним. В лице Леона Блуа умирающая католическо-латинская культура явила почти пророческую силу и огненную страсть. Трагедия латинского духа достигла в Л. Блуа последней остроты. Вырождение католичества, разложение латинской культуры многократно засвидетельствованы самим Л. Блуа. Он хорошо знает: то, что он любит, с чем неотрывно связывает свой дух, то приходит в упадок и умирает. И всё же, как истинный латинянин, как романтик, он не допускает духовной жизни и религиозного возрождения вне католичества, вне покорности Папе, вне принятия всей завершенной пластики, всей архитектуры Католической церкви. Вся латинская трагедия Л. Блуа в том, как пережить религиозную силу в религиозном бессилии католичества, религиозную верность в религиозной измене католичества, религиозную красоту в религиозном уродстве католичества; как быть религиозным пророком, оставаясь обращенным к католическому прошлому. Латинский дух, бессильный пережить христианство как внутреннюю мистерию духа, должен был прийти к трагическому отчаянию Леона Блуа,
к невыносимой муке его жизни, чтобы в конце найти выход.
Николай Бердяев «Рыцарь нищеты».
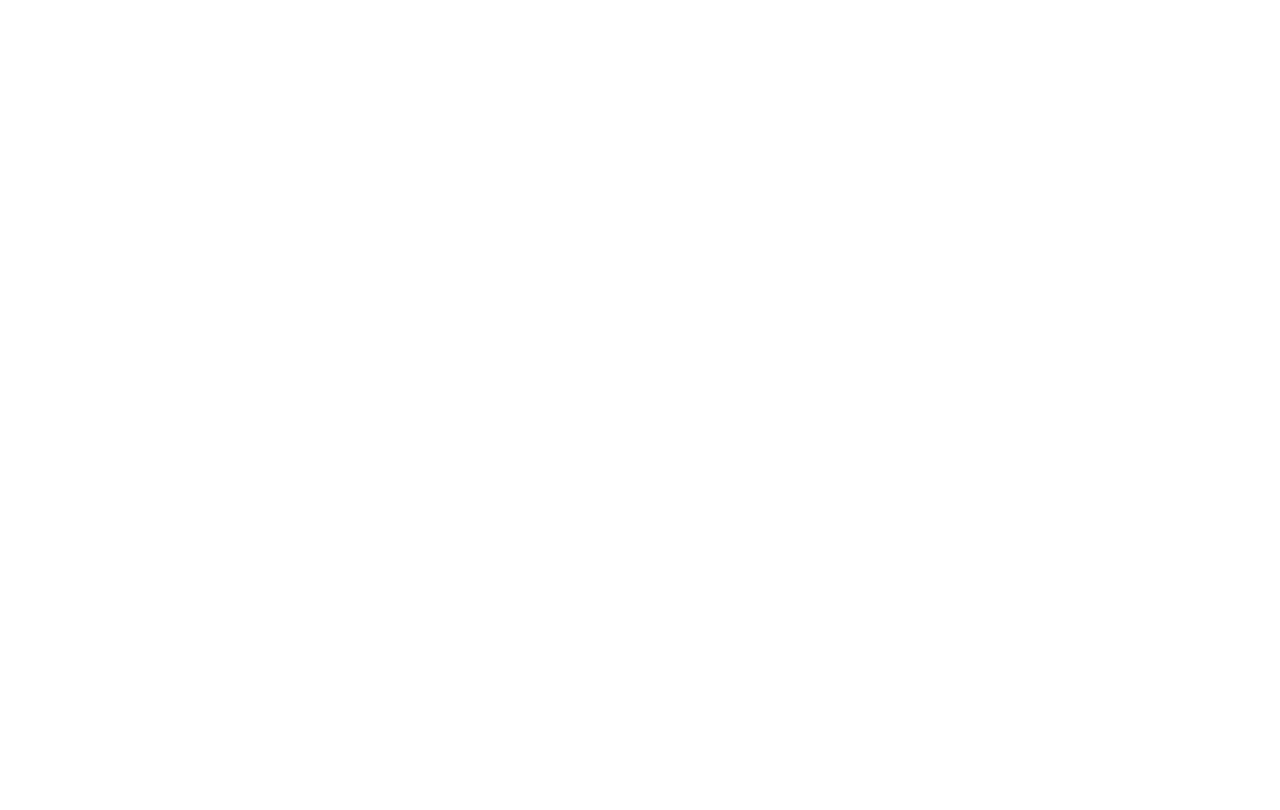
Никто не совершенен
Камилле Лемонье
Удостоверившись в том, что старик получил достаточное количество ножевых ранений, и испустил, наконец-таки то, что принято называть последним вздохом, Эскулап Нуптиаль, прежде всего, задумался о развлечениях.
Являясь человеком рассудительным, он считал, что верёвка не всегда должна быть туго натянута*, что разумно, время от времени, дышать полной грудью, и что любое усилие должно щедро оплачиваться.
В этот раз ему удалось заполучить крупную сумму, поэтому наслаждающийся жизнью и деликатно надушенной совестью, он сновал из стороны в сторону, под каштанами или платанами, смакуя ароматный вечерний воздух.
Это была весна, недвусмысленная и ревматическая весна равноденствия, а пьянящее оживления начала июня, момент, когда Близнецы, сжимающие друг друга в объятиях, пятятся под нажимом наступающих Раков.
Переполненный сладчайшими впечатлениями, с намокшими глазами от слёз, Эскулап мнил себя апостолом.
Он желал процветания человеческому роду, братства – свирепым животным, попечительства – угнетённым и утешения – всем страждущим.
Его сердце, переполняемое милосердием, трепетало при виде нуждающихся, поэтому он осыпал их обильным дождём из медных монет, которыми были набиты его карманы.
Он даже посетил церковь, ради участия в общей молитве, которую читала верная паства.
Он благоговел перед Господом, говоря ему, что любит своего ближнего, как самого себя. Он благодарил Его за полученные благословения, признавая тот факт, что был выхвачен из небытия. Он молился о том, чтобы сумерки, скрывающие от него безобразие и злобу греха, рассеялись.
Затем проведя скрупулёзное исследование своей совести, он обнаружил в ней цепкие несовершенства, упрямые мелочи: поползновения тщеславия, нетерпение, рассеянность, недомолвки, необдуманные, едва ли богоугодные суждения, и т. д., но особенно лень и пренебрежение в исполнении своего devoir d’etat*.
Он кончил обещанием избавиться от лишних колебаний, после этого воззвал к небесам о помощи умирающим и странствующим, помолился, как подобается, о покровительстве в ночном мраке, и проникнутый возвышенными чувствами, побежал в направление ближайшего притона* (лупанария).
***
Так как он стоял за честные радости, то его нельзя было назвать тем, кто легко поддаётся легкомысленным распутствам.
Он больше склонялся в сторону строгости и едва защищался со смехотворной серьёзностью.
Он убивал, чтобы жить, потому что работа есть работа. Он мог бы, как и многие другие, гордиться опасностями такой щекотливой профессии. Но он предпочитал тишину. Подобно вьюнку, цветы его души расцветали лишь в ночных сумерках.
Он убивал на дому, вежливо, незаметно и максимально аккуратно. Со всей смелостью, можно было сказать, что Эскулап работал на совесть.
Он не давал невыполнимых обещаний. Он вообще никогда и никому ничего не обещал. Но его клиенты никогда не жаловались.
Что касается злых языков, то ему было всё равно. «Делать на совесть и позволять людям сплетничать»– было его девизом. Ему было достаточно своего внутреннего голоса.
Прежде всего, человек внутренний, он был редким гостем в харчевнях, и даже самые оголтелые из его злопыхателей, были вынуждены отдавать ему должное - не мелькать у него на глазах снаружи борделя.
В этой гостеприимной обители он пристрастился к скудно одетой молодой девушке, которая благодаря своей скороспелой виртуозности приводила клиентуру в непомерный восторг, способствуя процветанию этого заведения.
Едва выйдя из детского возраста, она уже вызывала восхищение во многих салонах.
Удачливый Эскулап умел влюблять в себя, и казалось, что время «останавливало свой бег» в тот момент, когда эти два существа наклонялись друг к другу на фоне таинственного озера.
Прекрасная Лулу теряла голову в тот момент, когда появлялся её маленький Куку, и последний, часто был вынужден возвращать её к профессиональному чувству ремесла, когда старые господа теряли терпение.
Взамен она давала ему ценные наводки…
В конце концов, они с проницательностью инвестировали довольно солидные суммы, из которых Лулу не брала себе почти ни сантима, так как свежего воздуха и дневного света было вполне достаточно для её ежедневного туалета, всегда изящного и в то же время простого.
Они даже предвкушали награду за их труды, ожидавшую их в сельской глуши, в какой-нибудь хижине, утопающей в сирени и розах, которую они когда-нибудь купят; и спокойную старость, которой Провидение награждает «храбро сражавшихся».
Да, несомненно, так они думали, но, увы, мало кто осознаёт всю тщетность человеческих помыслов...
***
Последующие события, о которых я поведаю, чрезвычайно печальны.
Той ночью Эскулап не появился. Публичному дому был нанесён невиданный доселе ущерб. Бедняжка Лулу, сперва залихорадившая и взволнованная, затем осунувшаяся и растерянная, перестала угождать.
Бельгийский нотариус, приехавший тратить денежки своих клиентов, схлопотал пару смачных пощёчин, чем удивил проходящих мимо зевак.
Скандал был грандиозным, и расплата казалась неизбежной, но Лулу не хотела «ничего слышать». Тревога, доходящая до бреда, подвела её к столь сильному презрению по отношению к моральным догмам, что она решилась отворить окно, которое оставалось закрытым с четырнадцатого июля прошлого года, и стала взывать к своему любимому Куку, ужасающим криком, в великой ночной тишине.
Несколько протестантских священников, не без возмущения, убежали в страхе, а серьёзные газетёнки с грустью заговорили о конце света на следующий день.
Должен ли я сказать об этом? Эскулап ушёл в загул и встретил змея искусителя на своём пути.
В то время как он тихонько возвращался в лоно любви, к нему обратился друг детства, которого он не видел десять лет и которому впервые в жизни удалось переманить его на свою сторону…
Не знаю уж на какие ухищрения пошёл этот злосчастный дружок, чтобы сбить его с узкого пути, ведущего к небу; но в тот день они так напились, что к рассвету обезумевший любовник стонущей Лулу сел в карету, чтобы двинуться на поиски Духовного подвига, про который, он видимо накануне запамятовал, в доме своего Маккавея; подвига, который он считал абсолютно необходимым для своего внутреннего прогресса в рамках духовного самосовершенствования.
Преданный компаньон бурной ночи довёл его, словно за руку, до комнаты мертвеца, где его услужливо ожидал комиссар полиции.
Вот так одна оплошность разрушила две блистательные карьеры.
Никто не совершенен.
*(«Верёвка не всегда должна быть туго натянута; La corde ne peut toujours être tendue» – на русский лад: «Нельзя быть всегда в напряжении; Нужно давать себе передышку»)
*(Devoir d’etat – философское понятие, в форме нравоучения, распространённое в католицизме, о благостном надлежащем поведении и формировании мыслей. Для русскоязычных проблема состоит в том, что современными историками церкви существующий Синодальный перевод Библии на русский язык (от 1876 года) критикуется самым строгим образом: отсутствуют многие главы из латинских и других источников, и очень часто целые параграфы обнаруживают инкогеренцию – incohérence aux textes sources. Поэтому всё чаще такие вспомогательные издания как «Симфония на Книги Ветхого и Нового Заветов» не помогают найти соответствия фраз и понятий в текстах Библии, которые были изданы на европейских языках, к Синодальному изданию на русском языке)
*(Лупанарий – публичный дом в Древнем Риме)
Камилле Лемонье
Удостоверившись в том, что старик получил достаточное количество ножевых ранений, и испустил, наконец-таки то, что принято называть последним вздохом, Эскулап Нуптиаль, прежде всего, задумался о развлечениях.
Являясь человеком рассудительным, он считал, что верёвка не всегда должна быть туго натянута*, что разумно, время от времени, дышать полной грудью, и что любое усилие должно щедро оплачиваться.
В этот раз ему удалось заполучить крупную сумму, поэтому наслаждающийся жизнью и деликатно надушенной совестью, он сновал из стороны в сторону, под каштанами или платанами, смакуя ароматный вечерний воздух.
Это была весна, недвусмысленная и ревматическая весна равноденствия, а пьянящее оживления начала июня, момент, когда Близнецы, сжимающие друг друга в объятиях, пятятся под нажимом наступающих Раков.
Переполненный сладчайшими впечатлениями, с намокшими глазами от слёз, Эскулап мнил себя апостолом.
Он желал процветания человеческому роду, братства – свирепым животным, попечительства – угнетённым и утешения – всем страждущим.
Его сердце, переполняемое милосердием, трепетало при виде нуждающихся, поэтому он осыпал их обильным дождём из медных монет, которыми были набиты его карманы.
Он даже посетил церковь, ради участия в общей молитве, которую читала верная паства.
Он благоговел перед Господом, говоря ему, что любит своего ближнего, как самого себя. Он благодарил Его за полученные благословения, признавая тот факт, что был выхвачен из небытия. Он молился о том, чтобы сумерки, скрывающие от него безобразие и злобу греха, рассеялись.
Затем проведя скрупулёзное исследование своей совести, он обнаружил в ней цепкие несовершенства, упрямые мелочи: поползновения тщеславия, нетерпение, рассеянность, недомолвки, необдуманные, едва ли богоугодные суждения, и т. д., но особенно лень и пренебрежение в исполнении своего devoir d’etat*.
Он кончил обещанием избавиться от лишних колебаний, после этого воззвал к небесам о помощи умирающим и странствующим, помолился, как подобается, о покровительстве в ночном мраке, и проникнутый возвышенными чувствами, побежал в направление ближайшего притона* (лупанария).
***
Так как он стоял за честные радости, то его нельзя было назвать тем, кто легко поддаётся легкомысленным распутствам.
Он больше склонялся в сторону строгости и едва защищался со смехотворной серьёзностью.
Он убивал, чтобы жить, потому что работа есть работа. Он мог бы, как и многие другие, гордиться опасностями такой щекотливой профессии. Но он предпочитал тишину. Подобно вьюнку, цветы его души расцветали лишь в ночных сумерках.
Он убивал на дому, вежливо, незаметно и максимально аккуратно. Со всей смелостью, можно было сказать, что Эскулап работал на совесть.
Он не давал невыполнимых обещаний. Он вообще никогда и никому ничего не обещал. Но его клиенты никогда не жаловались.
Что касается злых языков, то ему было всё равно. «Делать на совесть и позволять людям сплетничать»– было его девизом. Ему было достаточно своего внутреннего голоса.
Прежде всего, человек внутренний, он был редким гостем в харчевнях, и даже самые оголтелые из его злопыхателей, были вынуждены отдавать ему должное - не мелькать у него на глазах снаружи борделя.
В этой гостеприимной обители он пристрастился к скудно одетой молодой девушке, которая благодаря своей скороспелой виртуозности приводила клиентуру в непомерный восторг, способствуя процветанию этого заведения.
Едва выйдя из детского возраста, она уже вызывала восхищение во многих салонах.
Удачливый Эскулап умел влюблять в себя, и казалось, что время «останавливало свой бег» в тот момент, когда эти два существа наклонялись друг к другу на фоне таинственного озера.
Прекрасная Лулу теряла голову в тот момент, когда появлялся её маленький Куку, и последний, часто был вынужден возвращать её к профессиональному чувству ремесла, когда старые господа теряли терпение.
Взамен она давала ему ценные наводки…
В конце концов, они с проницательностью инвестировали довольно солидные суммы, из которых Лулу не брала себе почти ни сантима, так как свежего воздуха и дневного света было вполне достаточно для её ежедневного туалета, всегда изящного и в то же время простого.
Они даже предвкушали награду за их труды, ожидавшую их в сельской глуши, в какой-нибудь хижине, утопающей в сирени и розах, которую они когда-нибудь купят; и спокойную старость, которой Провидение награждает «храбро сражавшихся».
Да, несомненно, так они думали, но, увы, мало кто осознаёт всю тщетность человеческих помыслов...
***
Последующие события, о которых я поведаю, чрезвычайно печальны.
Той ночью Эскулап не появился. Публичному дому был нанесён невиданный доселе ущерб. Бедняжка Лулу, сперва залихорадившая и взволнованная, затем осунувшаяся и растерянная, перестала угождать.
Бельгийский нотариус, приехавший тратить денежки своих клиентов, схлопотал пару смачных пощёчин, чем удивил проходящих мимо зевак.
Скандал был грандиозным, и расплата казалась неизбежной, но Лулу не хотела «ничего слышать». Тревога, доходящая до бреда, подвела её к столь сильному презрению по отношению к моральным догмам, что она решилась отворить окно, которое оставалось закрытым с четырнадцатого июля прошлого года, и стала взывать к своему любимому Куку, ужасающим криком, в великой ночной тишине.
Несколько протестантских священников, не без возмущения, убежали в страхе, а серьёзные газетёнки с грустью заговорили о конце света на следующий день.
Должен ли я сказать об этом? Эскулап ушёл в загул и встретил змея искусителя на своём пути.
В то время как он тихонько возвращался в лоно любви, к нему обратился друг детства, которого он не видел десять лет и которому впервые в жизни удалось переманить его на свою сторону…
Не знаю уж на какие ухищрения пошёл этот злосчастный дружок, чтобы сбить его с узкого пути, ведущего к небу; но в тот день они так напились, что к рассвету обезумевший любовник стонущей Лулу сел в карету, чтобы двинуться на поиски Духовного подвига, про который, он видимо накануне запамятовал, в доме своего Маккавея; подвига, который он считал абсолютно необходимым для своего внутреннего прогресса в рамках духовного самосовершенствования.
Преданный компаньон бурной ночи довёл его, словно за руку, до комнаты мертвеца, где его услужливо ожидал комиссар полиции.
Вот так одна оплошность разрушила две блистательные карьеры.
Никто не совершенен.
*(«Верёвка не всегда должна быть туго натянута; La corde ne peut toujours être tendue» – на русский лад: «Нельзя быть всегда в напряжении; Нужно давать себе передышку»)
*(Devoir d’etat – философское понятие, в форме нравоучения, распространённое в католицизме, о благостном надлежащем поведении и формировании мыслей. Для русскоязычных проблема состоит в том, что современными историками церкви существующий Синодальный перевод Библии на русский язык (от 1876 года) критикуется самым строгим образом: отсутствуют многие главы из латинских и других источников, и очень часто целые параграфы обнаруживают инкогеренцию – incohérence aux textes sources. Поэтому всё чаще такие вспомогательные издания как «Симфония на Книги Ветхого и Нового Заветов» не помогают найти соответствия фраз и понятий в текстах Библии, которые были изданы на европейских языках, к Синодальному изданию на русском языке)
*(Лупанарий – публичный дом в Древнем Риме)
ON N’EST PAS PARFAIT
à Camille Lemonnier.
Esculape Nuptial, s’étant assuré que le vieillard avait reçu un nombre suffisant de coups de couteau et qu’il avait certainement exhalé ce qu’on est convenu d’appeler le dernier soupir, songea tout d’abord à se procurer quelque divertissement.
Cet homme judicieux estima que la corde ne saurait être toujours tendue, qu’il est sage de respirer quelquefois et que toute peine vaut son salaire.
Il avait eu la chance de mettre la main sur la forte somme. Heureux de vivre et la conscience délicatement parfumée, il allait çà et là, sous les marronniers ou les platanes, respirant avec délices l’odorante haleine du soir.
C’était le printemps, non l’équivoque et rhumatismal printemps de l’équinoxe, mais le capiteux renouveau du commencement de juin, lorsque les Gémeaux enlacés reculent devant l’Écrevisse.
Esculape, inondé d’impressions suaves et les yeux mouillés de pleurs, se sentit apôtre.
Il désira le bonheur du genre humain, la fraternité des bêtes féroces, la tutelle des opprimés, la consolation de ceux qui souffrent.
Son cœur plein de pardons s’inclina vers les indigents. Il répandit dans des mains tendues l’abondante monnaie de cuivre dont ses poches étaient encombrées.
Il entra même dans une église et prit part à la prière en commun que récitait un troupeau fidèle.
Il adora Dieu, lui disant qu’il aimait son prochain comme lui-même. Il rendit grâces pour les biens qu’il avait reçus, se reconnaissant tiré du néant.
Il demanda que fussent dissipées les ténèbres qui lui cachaient la laideur et la malice du péché, fit un scrupuleux examen de conscience, découvrit en lui des imperfections tenaces, de persistantes broutilles : mouvements de vanité, impatiences, distractions, omissions, jugements téméraires et peu charitables, etc., mais surtout la paresse et la négligence dans l’accomplissement des devoirs de son état.
Il termina par un bon propos d’être moins fragile désormais, implora le secours du ciel pour les agonisants et les voyageurs, demanda, comme il convient, d’être protégé pendant la nuit, et, pénétré de ces sentiments, courut au plus prochain lupanar.
⁂
Car il tenait pour les joies honnêtes. Ce n’était pas un de ces hommes qui se laissent aller facilement aux dissipations frivoles.
Il penchait plutôt du côté de la rigueur et ne se défendait qu’à peine d’une gravité ridicule.
Il tuait pour vivre, parce qu’il n’y a pas de sot métier. Il aurait pu, comme tant d’autres, s’enorgueillir des dangers d’une si chatouilleuse profession. Mais il préférait le silence. Pareilles au convolvulus, les fleurs de son âme ne s’épanouissaient que dans la pénombre.
Il tuait à domicile, poliment, discrètement et le plus proprement du monde. C’était, on peut le dire, de la besogne joliment exécutée.
Il ne promettait pas ce qu’il était incapable de tenir. Il ne promettait même rien du tout. Mais ses clients ne se plaignirent jamais.
Quant aux langues venimeuses, il n’en avait cure. Bien faire et laisser dire, telle était sa devise. Le suffrage de sa conscience lui suffisait.
Homme d’intérieur, avant tout, on ne le voyait que très rarement dans les cafés, et les malveillants eux-mêmes étaient forcés de lui rendre cette justice qu’en dehors du bordel, il ne voyait à peu près personne.
Dans cette demeure hospitalière, il avait fixé sa dilection sur une jeune fille légèrement vêtue qui faisait prospérer l’établissement et que sa précocité de virtuose désignait à l’enthousiasme.
À peine au sortir de l’enfance, de nombreux salons l’avaient admirée déjà.
L’heureux Esculape avait eu l’art de s’en faire aimer, et le temps paraissait « suspendre son vol », quand ces deux êtres étaient penchés, l’un vers l’autre, sur le lac mystique.
La ravissante Loulou ne voulait plus rien savoir aussitôt qu’apparaissait son petit Cucu, et, souvent, celui-ci fut contraint de la ramener au sentiment professionnel de son art, quand les vieux messieurs s’impatientaient.
Elle lui donnait, en retour, des indications précieuses…
Enfin, ils plaçaient avec discernement d’assez jolies sommes. Loulou n’usait presque rien, l’air et la lumière suffisant à peu près à sa toilette quotidienne, qui était toujours très simple et d’un goût parfait.
Déjà même, ils entrevoyaient la récompense, l’heureux avenir qui les attendait à la campagne, dans quelque chaumière enfouie sous les lilas et les roses, qu’ils achèteraient un jour, et la vieillesse paisible, dont la Providence rémunère ceux qui ont bravement combattu.
Oui, sans doute, mais, hélas ! qui pourra dire combien sont vaines les pensées des hommes ?
⁂
Ce qui va suivre est excessivement douloureux.
Cette nuit-là, Esculape ne parut pas. La maison en souffrit plus qu’on ne peut dire,
La pauvre Loulou, d’abord fébrile, puis agitée, et enfin hagarde, cessa de plaire.
Un notaire belge, qui avait apporté les fonds de ses clients, reçut une retentissante paire de claques, dont les passants s’étonnèrent.
Le scandale fut énorme et le décri parut imminent. Mais elle ne voulait « entendre à rien ni à personne ». Son inquiétude montant au délire, elle poussa le mépris des lois jusqu’à ouvrir une fenêtre demeurée close, depuis le dernier 14 juillet, et appela son Cucu, d’une voix terrible, dans le grand silence nocturne.
Quelques pasteurs protestants prirent le large, non sans avoir exprimé leur indignation, et, dès le lendemain, les journaux graves pronostiquèrent tristement la fin du monde.
Dois-je le déclarer ? Esculape faisait la noce, Esculape avait rencontré un serpent.
Comme il rentrait sagement au bercail d’amour, il fut accosté par un camarade d’enfance qu’il n’avait pas vu depuis dix ans et qui parvint à le débaucher, pour la première fois de sa vie.
J’ignore les sophismes que déploya cet ami funeste pour le détourner de l’étroite voie qui mène au ciel ; mais ils se soûlèrent à ce point que, vers l’aurore, l’amant désorbité de la gémissante Loulou prit une voiture pour aller chercher un Combat spirituel qu’il se souvenait d’avoir oublié, la veille, chez son machabée, et qu’il jugeait tout à fait indispensable à son progrès intérieur.
Le fidèle compagnon de sa nuit le conduisit, comme par la main, jusque dans la chambre du mort, où le commissaire de police l’attendit obligeamment.
Et voilà comment une seule défaillance brisa deux carrières.
On n’est pas parfait.
à Camille Lemonnier.
Esculape Nuptial, s’étant assuré que le vieillard avait reçu un nombre suffisant de coups de couteau et qu’il avait certainement exhalé ce qu’on est convenu d’appeler le dernier soupir, songea tout d’abord à se procurer quelque divertissement.
Cet homme judicieux estima que la corde ne saurait être toujours tendue, qu’il est sage de respirer quelquefois et que toute peine vaut son salaire.
Il avait eu la chance de mettre la main sur la forte somme. Heureux de vivre et la conscience délicatement parfumée, il allait çà et là, sous les marronniers ou les platanes, respirant avec délices l’odorante haleine du soir.
C’était le printemps, non l’équivoque et rhumatismal printemps de l’équinoxe, mais le capiteux renouveau du commencement de juin, lorsque les Gémeaux enlacés reculent devant l’Écrevisse.
Esculape, inondé d’impressions suaves et les yeux mouillés de pleurs, se sentit apôtre.
Il désira le bonheur du genre humain, la fraternité des bêtes féroces, la tutelle des opprimés, la consolation de ceux qui souffrent.
Son cœur plein de pardons s’inclina vers les indigents. Il répandit dans des mains tendues l’abondante monnaie de cuivre dont ses poches étaient encombrées.
Il entra même dans une église et prit part à la prière en commun que récitait un troupeau fidèle.
Il adora Dieu, lui disant qu’il aimait son prochain comme lui-même. Il rendit grâces pour les biens qu’il avait reçus, se reconnaissant tiré du néant.
Il demanda que fussent dissipées les ténèbres qui lui cachaient la laideur et la malice du péché, fit un scrupuleux examen de conscience, découvrit en lui des imperfections tenaces, de persistantes broutilles : mouvements de vanité, impatiences, distractions, omissions, jugements téméraires et peu charitables, etc., mais surtout la paresse et la négligence dans l’accomplissement des devoirs de son état.
Il termina par un bon propos d’être moins fragile désormais, implora le secours du ciel pour les agonisants et les voyageurs, demanda, comme il convient, d’être protégé pendant la nuit, et, pénétré de ces sentiments, courut au plus prochain lupanar.
⁂
Car il tenait pour les joies honnêtes. Ce n’était pas un de ces hommes qui se laissent aller facilement aux dissipations frivoles.
Il penchait plutôt du côté de la rigueur et ne se défendait qu’à peine d’une gravité ridicule.
Il tuait pour vivre, parce qu’il n’y a pas de sot métier. Il aurait pu, comme tant d’autres, s’enorgueillir des dangers d’une si chatouilleuse profession. Mais il préférait le silence. Pareilles au convolvulus, les fleurs de son âme ne s’épanouissaient que dans la pénombre.
Il tuait à domicile, poliment, discrètement et le plus proprement du monde. C’était, on peut le dire, de la besogne joliment exécutée.
Il ne promettait pas ce qu’il était incapable de tenir. Il ne promettait même rien du tout. Mais ses clients ne se plaignirent jamais.
Quant aux langues venimeuses, il n’en avait cure. Bien faire et laisser dire, telle était sa devise. Le suffrage de sa conscience lui suffisait.
Homme d’intérieur, avant tout, on ne le voyait que très rarement dans les cafés, et les malveillants eux-mêmes étaient forcés de lui rendre cette justice qu’en dehors du bordel, il ne voyait à peu près personne.
Dans cette demeure hospitalière, il avait fixé sa dilection sur une jeune fille légèrement vêtue qui faisait prospérer l’établissement et que sa précocité de virtuose désignait à l’enthousiasme.
À peine au sortir de l’enfance, de nombreux salons l’avaient admirée déjà.
L’heureux Esculape avait eu l’art de s’en faire aimer, et le temps paraissait « suspendre son vol », quand ces deux êtres étaient penchés, l’un vers l’autre, sur le lac mystique.
La ravissante Loulou ne voulait plus rien savoir aussitôt qu’apparaissait son petit Cucu, et, souvent, celui-ci fut contraint de la ramener au sentiment professionnel de son art, quand les vieux messieurs s’impatientaient.
Elle lui donnait, en retour, des indications précieuses…
Enfin, ils plaçaient avec discernement d’assez jolies sommes. Loulou n’usait presque rien, l’air et la lumière suffisant à peu près à sa toilette quotidienne, qui était toujours très simple et d’un goût parfait.
Déjà même, ils entrevoyaient la récompense, l’heureux avenir qui les attendait à la campagne, dans quelque chaumière enfouie sous les lilas et les roses, qu’ils achèteraient un jour, et la vieillesse paisible, dont la Providence rémunère ceux qui ont bravement combattu.
Oui, sans doute, mais, hélas ! qui pourra dire combien sont vaines les pensées des hommes ?
⁂
Ce qui va suivre est excessivement douloureux.
Cette nuit-là, Esculape ne parut pas. La maison en souffrit plus qu’on ne peut dire,
La pauvre Loulou, d’abord fébrile, puis agitée, et enfin hagarde, cessa de plaire.
Un notaire belge, qui avait apporté les fonds de ses clients, reçut une retentissante paire de claques, dont les passants s’étonnèrent.
Le scandale fut énorme et le décri parut imminent. Mais elle ne voulait « entendre à rien ni à personne ». Son inquiétude montant au délire, elle poussa le mépris des lois jusqu’à ouvrir une fenêtre demeurée close, depuis le dernier 14 juillet, et appela son Cucu, d’une voix terrible, dans le grand silence nocturne.
Quelques pasteurs protestants prirent le large, non sans avoir exprimé leur indignation, et, dès le lendemain, les journaux graves pronostiquèrent tristement la fin du monde.
Dois-je le déclarer ? Esculape faisait la noce, Esculape avait rencontré un serpent.
Comme il rentrait sagement au bercail d’amour, il fut accosté par un camarade d’enfance qu’il n’avait pas vu depuis dix ans et qui parvint à le débaucher, pour la première fois de sa vie.
J’ignore les sophismes que déploya cet ami funeste pour le détourner de l’étroite voie qui mène au ciel ; mais ils se soûlèrent à ce point que, vers l’aurore, l’amant désorbité de la gémissante Loulou prit une voiture pour aller chercher un Combat spirituel qu’il se souvenait d’avoir oublié, la veille, chez son machabée, et qu’il jugeait tout à fait indispensable à son progrès intérieur.
Le fidèle compagnon de sa nuit le conduisit, comme par la main, jusque dans la chambre du mort, où le commissaire de police l’attendit obligeamment.
Et voilà comment une seule défaillance brisa deux carrières.
On n’est pas parfait.
Фрагменты из дневников
***
Визит одного молодого человека, который обедал у нас сегодня. Прожорливость этого мыслителя стоила нам почти всех наших съестных запасов, которые мы припасли, чтобы хоть как-то продержаться до конца месяца. Хорошо хоть, что он оказался достаточно воспитанным, чтобы не разглагольствовать о достоинствах протестантизма, так как мы уже и так были сыты по горло его россказнями об Англии и его беззаботной жизни.
***
Фрагмент письма одного очень несчастного человека:
… «Наконец-то я пришёл к пониманию вашей “гидростатики”. Вы пишите мне о море, по которому богачи рассекают на своих яхтах, вдоль которого бедняки гребут на своих лодках и где нищие просто барахтаются или тонут. Должен вам признаться, дорогой друг, что это не совсем то, что меня манит и, честно говоря, я не хочу принадлежать ни к одной из этих трёх категорий “мореплавателей”».
В ответ я пишу ему: «Вы знаете, сколь много значит для меня моя дорогая супруга, поэтому я прилагаю её слова, которые являются ответом на ваше письмо: “Наш дорогой друг заблуждается, ведь он забыл, что истинные друзья Бога способны идти по воде подобно Господу Богу, Иисусу Христу”».
***
Месье, так как в ваших глазах я являю собой "европейского мыслителя", и вы осыпаете меня честью стать для вас эдаким консультантом, смею отправить краткие ответы на три ваших вопроса:
I. Солидарны ли Христианские народы между собой?
– Безусловно. Они солидарны в своём кретинизме, подлости, трусости, свирепости и бесчестии.
II. Можно ли принести в жертву интересам Христианской цивилизации заботу о сохранении мира любой ценой?
– Поставленный вами вопрос мне совершенно непонятен. Но это, в общем-то, и не важно, так как я, прежде всего, выступаю за Христианское варварство.
III. Осталось ли в современном мире место морали, морали индивидуума и морали государства?
– Безусловно нет, так как и государства и люди исключительно аморальны!
***
Пожар в «Базар де ла Шарите». Большое количество жертв среди дамочек из высшего общества, которые за какое-то мгновение обратились в угольки. «Non pro mundo rogo», – говорит Господь. Поистине поразительная благоглупость Коппе.
«Они собрались вместе, чтобы нести добро», – пишет он. Все, конечно, винят Господа Бога.
***
Моему другу Андре Р.
Чтобы позлить имбецилов.
Вы просите меня сказать несколько слов о «недавней трагедии». Я же буквально в нетерпении, чтобы выговориться по этому поводу, и даже немного страдаю из-за того, что не могу прокричать то, о чём думаю, вслух.
Я надеюсь, мой дорогой Андре, что вас не шокирует то, что, прочитав первые известия об этом ужасном событии, я испытал наичистейшее и наиприятнейшее ощущение огромной тяжести, от которой освободилось моё сердце, и единственное, что омрачило мне радость – это столь малое число жертв среди представительниц высшего общества.
Наконец-то, сказал я себе, наконец-то справедливость восторжествовала.
И только подумайте это гнусное слово «Базар», сплетённое по недоразумению со словом «Милосердие», со страшным и жгучим Божественным словом, низведённым, таким образом до состояния вспомогательного.
Поэтому на этом «Базаре» все вывески годятся разве что для борделей или притонов, к примеру «A la Truie qui fie», поэтому там ошиваются длинногривые и монашки, циркулирующие в этом аристократическом шалмане, затаскивая в него бедных, невинных существ, словно в водоворот!
И папский нунций едет благословлять всю эту шоблу!
Ах, друг мой, какой прекрасный памфлет выйдет из этого – Испепеляющий «Базар де ла Шарите».
Самое главное, что эти богатые шалашовки обуглились только после того, как папский нунций благословил их шикарные наряды, прикрывавшие их нежные и сладострастные тела, и лишь после этого они обратились в цвет своих тряпочных чёрных душонок.
***
Одна молодая немка, подруга ужасающей датчанки, которая опорочила наш дом своим присутствием, допускается к обеденному столу. Приступив к трапезе, она тут же начинает источать зловоние, выражая свою глубокую любовь к германской свинье Бисмарку и ненависть к Пресвятой Богородице. Все попытки намекнуть ей на то, что она полная дура – тщетны. Возмущённые, мы вскоре встаём из-за стола и удаляемся из обеденного зала, оставляя эту грязную пруссачку гнить в её зловониях. Какой бы дурой она ни была, она в итоге понимает, что мы достаточно на неё нагляделись и уходит в ярости.
О катастрофе «Титаника»:
17-ое апреля 1912-ого года:
Газеты пестрят о катастрофе «Титаника», самого большого из трансатлантических судов. Во время своего первого плавания он наткнулся на айсберг, который продырявил ему бочину. Едва удалось спасти тысячу человек, из примерно четырёх тысяч, перевозимых этим дьявольским судном, набитым всклень роскошью и богатствами. Некоторые миллиардеры пошли на корм рыбам. Их окружала неслыханная роскошь, в то время как на дне трюма был своего рода ад для голоштанных эмигрантов.
***
Черты, наиболее точно характеризующие протестантов и их, в некотором роде, секту, к которой они принадлежат: ненависть к покаянию, любовь ко всему, что просто и бесхитростно, ужасающее безразличие по отношению к прекрасному. «Курить трубку перед лицом Господа Бога», – сказал мне профессор Грюндтвиген. Их терпимость, к тому же иллюзорная, есть лишь невероятное проявление отсутствия Абсолюта и демонического презрения к Наивысшей Сущности.
Утром, обычно к восьми часам, начинает раздаваться слоновий топот толпы, одна часть которой представлена детьми, идущими по направлению в школу, другая же женщинами и мужчинами, ведущими их туда поучать.
Рюкзаки детей нагружены книгами, естественными проводниками смерти, не имеющими ничего общего с тем, что дарует подлинное знание. Это наводит на мысль о шахтёрах, спешащих на заре к чёрной бездне и подвергающихся там бичеванию, в час, когда восходит светлый образ нашего Господа Бога, Иисуса Христа.
Такова жизнь в Дании. Люди бредут от колыбели до могилы для того, чтобы поучать других, либо для того, чтобы впитывать ненужные знания, по крайней мере, если они не принадлежат к наибеднейшей прослойке рабочего класса.
И всё существование этих лютеранских фантомов, осужденных на науку братской могилы, длится в унылой школе, где они, в конце концов, умирают во мраке, так и не сумев помыслить чего-либо путного, или понять что да как.
***
В данный момент я безнадёжен, глуп и абсолютно лишён энтузиазма. Отличное состояние для того, чтобы написать пару строк.
***
Красноречие булочника, говорящего мне сегодня утром о моей заметке в журнале, было подобно речи первых Христиан, воздающих хвалу Господу Богу.
***
Перед глазами два буржуа, мужчина и женщина, прожившие вместе полвека, никогда не говорившие друг с другом серьёзно, из-за того, что их речь состоит из банальностей и мнений на случай. Даже бы если Господь вдруг озарил их божественным светом, они бы всё равно в нём друг друга не признали.
***
Ужасная погода. Мы буквально барахтаемся в заледеневшей грязи. Всё это очень по-датски.
Выстилая, с величайшей аккуратностью, улицы камнем, местные архитекторы тут же бросают на поверхность шмат грязи, чтобы недостаток собачьего дерьма был не столь заметен. Дети Лютера не в состоянии жить в чистоте.
***
Что ни говори, но я не могу стать тем, кто может позволить себе друзей или поклонников, живущих в достатке.
Мне едва исполнилось десять лет, когда я прочёл в потёртой книжечке, купленной на блошином рынке, рассказ с наивным названием «Робкий малыш». Должно быть, в этой детской истории была божественная сила, потому что память о ней сопровождала меня всю мою жизнь. Это была история о маленьком мальчике, который плакал в коллеже из-за еды, которую ему там подавали, и он отказывался её есть, поминая скудный обеденный стол своих бедных родителей. По прошествии сорока пяти лет я все ещё плачу, я, старый памфлетист, вспоминая это столь скромное и далёкое событие из моей жизни.
***
Праздник всех Святых. Я ещё раз прошу независимости, чтобы иметь возможность выполнять свою работу, которая состоит в том, чтобы бороться с духом этого века, дабы, в конце концов, сокрушить его, во славу Бога и во славу всех Святых.
***
Этой ночью была вьюга. Все окрестности припорошены снегом. Подлинно-лютая скандинавская зима. Тем не менее, утром, несмотря на погоду, мы как обычно пошли в нашу бедную, неотапливаемую церковь, где во время молитвы казалось, что слова застывают от холода на наших устах.
Да укрепит Господь наше мужество!
***
Париж становится невыносимым. Когда у вас нет друзей, и вы отказались от чувственной жизни, то вам становится нечего делать среди велосипедов, автомобилей, электрических трамваев, курсирующих вдоль улиц, разбитых или заблокированных, то тут, то там, из-за рытья котлованов для метро. Во что превратился этот прекрасный город за последние сорок лет?
***
Вербное воскресенье. Ужасная погода. Приятель слабоумного короля Кристиана, и вся Дания празднуют. Его презренный зятёк, принц Уэльский, находится в Копенгагене, после попытки покушения на него в Париже у Северного вокзала. Молодой бельгиец выстрелил в эту свинью и, к несчастью, промазал. Какая досада, ведь кровоточащее тельце британского ублюдка подошло бы как нельзя кстати для кровяной колбасы.
***
С великой радостью узнаю о пожаре в театре Ирокез, что в Чикаго. Это утешительное испепеление кучки лендлордов, в очередной раз навеяло мне мысль о пожаре в Париже, который так часто предсказывали.
***
Пир всех свиней. Презренная радость огромной толпы. Когда буржуа резвятся, они напоминают чертей напуганных до усрачки.
***
Я осветил мрачный угол помещения настольной лампой и во внезапно разлившемся свете увидел горстку монеток, лежащих на одной из полочек, видимо совершенно забытых. Тридцать пять сантимов. И будто Иисус мне шептал: «Это всё, что я могу в данный момент. Прояви терпение и мужество, и сильно не злись на меня. Помни, что я был распят…»
***
Элементарная география. Что же это за место под названием Свинск на Марне? Ответ очевиден – это дыра, кишащая паразитами.
***
Из письма князя Урусова я узнал, что в результате прогрессирующей глухоты он окончательно потерял слух. В условиях этой драматичной жизненной ситуации он утешает себя своей «душой букиниста», читая бесчисленное количество книг.
«Музыка, шелест листьев, многообразие человеческих голосов и акцентов, вместе с возможностью мгновенно обмениваться мыслями – всё это исчезло. Мои друзья уже устали кричать мне на ухо, чтобы до меня достучаться».
К этим печальным строчкам он добавляет, что больше не верит в Бога и, что он живёт (в ожидании неизвестно какой ужасающей смерти), словно животное.
Несчастный бедолага...
***
Визит одного молодого человека, который обедал у нас сегодня. Прожорливость этого мыслителя стоила нам почти всех наших съестных запасов, которые мы припасли, чтобы хоть как-то продержаться до конца месяца. Хорошо хоть, что он оказался достаточно воспитанным, чтобы не разглагольствовать о достоинствах протестантизма, так как мы уже и так были сыты по горло его россказнями об Англии и его беззаботной жизни.
***
Фрагмент письма одного очень несчастного человека:
… «Наконец-то я пришёл к пониманию вашей “гидростатики”. Вы пишите мне о море, по которому богачи рассекают на своих яхтах, вдоль которого бедняки гребут на своих лодках и где нищие просто барахтаются или тонут. Должен вам признаться, дорогой друг, что это не совсем то, что меня манит и, честно говоря, я не хочу принадлежать ни к одной из этих трёх категорий “мореплавателей”».
В ответ я пишу ему: «Вы знаете, сколь много значит для меня моя дорогая супруга, поэтому я прилагаю её слова, которые являются ответом на ваше письмо: “Наш дорогой друг заблуждается, ведь он забыл, что истинные друзья Бога способны идти по воде подобно Господу Богу, Иисусу Христу”».
***
Месье, так как в ваших глазах я являю собой "европейского мыслителя", и вы осыпаете меня честью стать для вас эдаким консультантом, смею отправить краткие ответы на три ваших вопроса:
I. Солидарны ли Христианские народы между собой?
– Безусловно. Они солидарны в своём кретинизме, подлости, трусости, свирепости и бесчестии.
II. Можно ли принести в жертву интересам Христианской цивилизации заботу о сохранении мира любой ценой?
– Поставленный вами вопрос мне совершенно непонятен. Но это, в общем-то, и не важно, так как я, прежде всего, выступаю за Христианское варварство.
III. Осталось ли в современном мире место морали, морали индивидуума и морали государства?
– Безусловно нет, так как и государства и люди исключительно аморальны!
***
Пожар в «Базар де ла Шарите». Большое количество жертв среди дамочек из высшего общества, которые за какое-то мгновение обратились в угольки. «Non pro mundo rogo», – говорит Господь. Поистине поразительная благоглупость Коппе.
«Они собрались вместе, чтобы нести добро», – пишет он. Все, конечно, винят Господа Бога.
***
Моему другу Андре Р.
Чтобы позлить имбецилов.
Вы просите меня сказать несколько слов о «недавней трагедии». Я же буквально в нетерпении, чтобы выговориться по этому поводу, и даже немного страдаю из-за того, что не могу прокричать то, о чём думаю, вслух.
Я надеюсь, мой дорогой Андре, что вас не шокирует то, что, прочитав первые известия об этом ужасном событии, я испытал наичистейшее и наиприятнейшее ощущение огромной тяжести, от которой освободилось моё сердце, и единственное, что омрачило мне радость – это столь малое число жертв среди представительниц высшего общества.
Наконец-то, сказал я себе, наконец-то справедливость восторжествовала.
И только подумайте это гнусное слово «Базар», сплетённое по недоразумению со словом «Милосердие», со страшным и жгучим Божественным словом, низведённым, таким образом до состояния вспомогательного.
Поэтому на этом «Базаре» все вывески годятся разве что для борделей или притонов, к примеру «A la Truie qui fie», поэтому там ошиваются длинногривые и монашки, циркулирующие в этом аристократическом шалмане, затаскивая в него бедных, невинных существ, словно в водоворот!
И папский нунций едет благословлять всю эту шоблу!
Ах, друг мой, какой прекрасный памфлет выйдет из этого – Испепеляющий «Базар де ла Шарите».
Самое главное, что эти богатые шалашовки обуглились только после того, как папский нунций благословил их шикарные наряды, прикрывавшие их нежные и сладострастные тела, и лишь после этого они обратились в цвет своих тряпочных чёрных душонок.
***
Одна молодая немка, подруга ужасающей датчанки, которая опорочила наш дом своим присутствием, допускается к обеденному столу. Приступив к трапезе, она тут же начинает источать зловоние, выражая свою глубокую любовь к германской свинье Бисмарку и ненависть к Пресвятой Богородице. Все попытки намекнуть ей на то, что она полная дура – тщетны. Возмущённые, мы вскоре встаём из-за стола и удаляемся из обеденного зала, оставляя эту грязную пруссачку гнить в её зловониях. Какой бы дурой она ни была, она в итоге понимает, что мы достаточно на неё нагляделись и уходит в ярости.
О катастрофе «Титаника»:
17-ое апреля 1912-ого года:
Газеты пестрят о катастрофе «Титаника», самого большого из трансатлантических судов. Во время своего первого плавания он наткнулся на айсберг, который продырявил ему бочину. Едва удалось спасти тысячу человек, из примерно четырёх тысяч, перевозимых этим дьявольским судном, набитым всклень роскошью и богатствами. Некоторые миллиардеры пошли на корм рыбам. Их окружала неслыханная роскошь, в то время как на дне трюма был своего рода ад для голоштанных эмигрантов.
***
Черты, наиболее точно характеризующие протестантов и их, в некотором роде, секту, к которой они принадлежат: ненависть к покаянию, любовь ко всему, что просто и бесхитростно, ужасающее безразличие по отношению к прекрасному. «Курить трубку перед лицом Господа Бога», – сказал мне профессор Грюндтвиген. Их терпимость, к тому же иллюзорная, есть лишь невероятное проявление отсутствия Абсолюта и демонического презрения к Наивысшей Сущности.
Утром, обычно к восьми часам, начинает раздаваться слоновий топот толпы, одна часть которой представлена детьми, идущими по направлению в школу, другая же женщинами и мужчинами, ведущими их туда поучать.
Рюкзаки детей нагружены книгами, естественными проводниками смерти, не имеющими ничего общего с тем, что дарует подлинное знание. Это наводит на мысль о шахтёрах, спешащих на заре к чёрной бездне и подвергающихся там бичеванию, в час, когда восходит светлый образ нашего Господа Бога, Иисуса Христа.
Такова жизнь в Дании. Люди бредут от колыбели до могилы для того, чтобы поучать других, либо для того, чтобы впитывать ненужные знания, по крайней мере, если они не принадлежат к наибеднейшей прослойке рабочего класса.
И всё существование этих лютеранских фантомов, осужденных на науку братской могилы, длится в унылой школе, где они, в конце концов, умирают во мраке, так и не сумев помыслить чего-либо путного, или понять что да как.
***
В данный момент я безнадёжен, глуп и абсолютно лишён энтузиазма. Отличное состояние для того, чтобы написать пару строк.
***
Красноречие булочника, говорящего мне сегодня утром о моей заметке в журнале, было подобно речи первых Христиан, воздающих хвалу Господу Богу.
***
Перед глазами два буржуа, мужчина и женщина, прожившие вместе полвека, никогда не говорившие друг с другом серьёзно, из-за того, что их речь состоит из банальностей и мнений на случай. Даже бы если Господь вдруг озарил их божественным светом, они бы всё равно в нём друг друга не признали.
***
Ужасная погода. Мы буквально барахтаемся в заледеневшей грязи. Всё это очень по-датски.
Выстилая, с величайшей аккуратностью, улицы камнем, местные архитекторы тут же бросают на поверхность шмат грязи, чтобы недостаток собачьего дерьма был не столь заметен. Дети Лютера не в состоянии жить в чистоте.
***
Что ни говори, но я не могу стать тем, кто может позволить себе друзей или поклонников, живущих в достатке.
Мне едва исполнилось десять лет, когда я прочёл в потёртой книжечке, купленной на блошином рынке, рассказ с наивным названием «Робкий малыш». Должно быть, в этой детской истории была божественная сила, потому что память о ней сопровождала меня всю мою жизнь. Это была история о маленьком мальчике, который плакал в коллеже из-за еды, которую ему там подавали, и он отказывался её есть, поминая скудный обеденный стол своих бедных родителей. По прошествии сорока пяти лет я все ещё плачу, я, старый памфлетист, вспоминая это столь скромное и далёкое событие из моей жизни.
***
Праздник всех Святых. Я ещё раз прошу независимости, чтобы иметь возможность выполнять свою работу, которая состоит в том, чтобы бороться с духом этого века, дабы, в конце концов, сокрушить его, во славу Бога и во славу всех Святых.
***
Этой ночью была вьюга. Все окрестности припорошены снегом. Подлинно-лютая скандинавская зима. Тем не менее, утром, несмотря на погоду, мы как обычно пошли в нашу бедную, неотапливаемую церковь, где во время молитвы казалось, что слова застывают от холода на наших устах.
Да укрепит Господь наше мужество!
***
Париж становится невыносимым. Когда у вас нет друзей, и вы отказались от чувственной жизни, то вам становится нечего делать среди велосипедов, автомобилей, электрических трамваев, курсирующих вдоль улиц, разбитых или заблокированных, то тут, то там, из-за рытья котлованов для метро. Во что превратился этот прекрасный город за последние сорок лет?
***
Вербное воскресенье. Ужасная погода. Приятель слабоумного короля Кристиана, и вся Дания празднуют. Его презренный зятёк, принц Уэльский, находится в Копенгагене, после попытки покушения на него в Париже у Северного вокзала. Молодой бельгиец выстрелил в эту свинью и, к несчастью, промазал. Какая досада, ведь кровоточащее тельце британского ублюдка подошло бы как нельзя кстати для кровяной колбасы.
***
С великой радостью узнаю о пожаре в театре Ирокез, что в Чикаго. Это утешительное испепеление кучки лендлордов, в очередной раз навеяло мне мысль о пожаре в Париже, который так часто предсказывали.
***
Пир всех свиней. Презренная радость огромной толпы. Когда буржуа резвятся, они напоминают чертей напуганных до усрачки.
***
Я осветил мрачный угол помещения настольной лампой и во внезапно разлившемся свете увидел горстку монеток, лежащих на одной из полочек, видимо совершенно забытых. Тридцать пять сантимов. И будто Иисус мне шептал: «Это всё, что я могу в данный момент. Прояви терпение и мужество, и сильно не злись на меня. Помни, что я был распят…»
***
Элементарная география. Что же это за место под названием Свинск на Марне? Ответ очевиден – это дыра, кишащая паразитами.
***
Из письма князя Урусова я узнал, что в результате прогрессирующей глухоты он окончательно потерял слух. В условиях этой драматичной жизненной ситуации он утешает себя своей «душой букиниста», читая бесчисленное количество книг.
«Музыка, шелест листьев, многообразие человеческих голосов и акцентов, вместе с возможностью мгновенно обмениваться мыслями – всё это исчезло. Мои друзья уже устали кричать мне на ухо, чтобы до меня достучаться».
К этим печальным строчкам он добавляет, что больше не верит в Бога и, что он живёт (в ожидании неизвестно какой ужасающей смерти), словно животное.
Несчастный бедолага...
Фрагменты из романа «Le Désespéré»
***
...На Париж опустился ужасающий грохот, так как настал тот час, когда вдоволь выдрыхшаяся человеческая масса повылезала из своих логовищ, чтобы растечься зловонной рекой вдоль эксцентричных кварталов и их близлежащих окрестностей, которые тут же заполнились мычаньем, так навевавшим коровье. Милионноногое стадо, алчное до денег и роскоши, выползло на «охоту». Суверенный пролетарий, высунув пропитую морду из своей псиной конуры, двинулся по направлению к предполагаемому месту работы; канцелярские крысы, не столь величественные, но в то же время не лишённые самомнения, направлялись в конторки, дабы исполнять, как и прежде, свои идиотские, административные обязанности; дельцы, тряпочные душонки которых были обильно вымазаны экскрементами, не накануне, а задолго до сегодняшнего дня, даже не удосужившись вымыть свои похабные хари, вприпрыжку бежали проворачивать новые афёры; армия мелких лавочников сновала из стороны в сторону, обмозговывая, как бы им попроще «завоевать мир»; пустоголовые, с фосфоресцентным цветом лица, с синяками под глазами после «сомнительных ночей», они гордо барахтались на донышке этого так называемого кипящего котла, бульканье в котором, ознаменовывало хоть и вялое, но «всё ещё функционирование» их рудиментарного разума. Париж кишел вонючими паразитами всех сортов, которые извивались словно земляные черви, среди ужасающего гула, который издавали повозки, проносящиеся вдоль проезжей части...
…C'était l'heure où la pire brute, assouvie de son repos, sort de ses antres et coule à pleines rues dans tout Paris. La besogneuse pécore aux millions de pieds, coureuse d'argent ou de luxure, mugissait aux alentours, dans cet excentrique quartier. Le prolétaire souverain, à la gueule de bois, s'élançait de son chenil vers d'hypothétiques ateliers; l'employé subalterne, moins auguste, mais de gréement plus correct, filait avec exactitude sur d'imbéciles administrations; les gens d'affaires, l'âme crottée de la veille et de l'avant-veille, couraient, sans ablutions, à de nouveaux tripotages; l'armée des petites ouvrières déambulait à la conquête du monde, la tête vide, le teint chimique, l'œil poché des douteuses nuits, brimbalant avec fierté de cet arrière-train autoclave, où s'accomplissent, comme dans leur vrai cerveau, les rudimentaires opérations de leur intellect. Toute la vermine parisienne grouillait en puant et déferlait, dans la clameur horrible des bas négoces du trottoir ou de la chaussée...
***
…Когда отец отправил меня в лицей, жизнь для меня в мгновение обернулась адом. Оглушённый страхом, презираемый другими детьми, дурость которых вселяла в меня ужас, подвергавшийся постоянным насмешкам со стороны педантичных снобов, которые обсмеивали меня перед моими товарищами, я погрузился в состояние безмолвного презрения по отношению к жизни и начал походить на молодого, безмозглого тупицу.
Эта блажь страданий, также, как и постоянная нервозность, от которой тянет под сердцем, обыкновенно присущая меланхоличным детям, которые были выброшены в учебные заведения, напоминающие порой исправительные, только усилили для меня невозможность представить себе какие-либо другие условия существования, которые бы могли выглядеть более-менее сносными. Мне казалось, что я свалился с высоченного облака в кучу зловонных отходов, люди в которой напоминали мне паразитов. Таким виделось мне человеческое общество в 14-ть лет, таким же я вижу его и сейчас.
Однажды, злонамеренность моих сверстников перешла все мыслимые границы, и я взъерепенился не на шутку. Схватив кухонный нож, который, к счастью, выглядел безобидно, я бросился, словно припадочный, на группу людей, состоящую из сорока молодых смехуйков, порезав двоих или троих из них в итоге. После потасовки, меня подняли из-под ударов, яростного, взъерошенного; и, честно признаться, чувствовал себя я тогда восхитительно. К сожалению, увечья нанесённые моим ножом были не столь существенными – несколько порезов, но после этого отец всё-таки решился уберечь меня от дальнейшего пребывания в отупляющем учреждении, позволив обучаться дома...
…Quand il me mit au lycée, ce fut un enfer. Hébété déjà par la crainte, méprisé des autres enfants dont la turbulence me faisait horreur, bafoué par d'ignobles cuistres qui m'offraient en risée à mes camarades, puni sans relâche et battu de toutes mains, je finis par tomber dans un taciturne dégoût de vivre qui me fit ressembler à un jeune idiot.
Cette parfaite détresse, cette perpétuelle constriction du cœur, ordinairement dévolue aux enfants mélancoliques dans les pénitentiaires de l'Université, s'aggravait pour moi de l'impossibilité de concevoir une condition terrestre qui fût moins atroce. Il me semblait être tombé, j'ignorais de quel empyrée, dans un amas infini d'ordures où les êtres humains m'apparaissaient comme de la vermine. Telle était, à quatorze ans, et telle est encore, aujourd'hui, ma conception de la société humaine!
Un jour, cependant, je me révoltai, la malice de mes condisciples ayant dépassé je ne sais plus quelles bornes. Je dérobai un couteau de réfectoire heureusement inoffensif et m'élançai, après une bravade emphatique, sur un groupe de quarante jeunes drôles dont je blessai deux ou trois. On me releva écumant, broyé de coups, superbe. Mon couteau avait fait peu de mal, à peine quelques écorchures, mais mon père, dut me retirer de l'abrutissant séjour et me garder à la maison…
***
...Работёнка переписчиком, в одной из парижских контор, представлялась ему персональным корытом, в которое он окунулся с головой, чтобы принять участие в так называемой борьбе за место под солнцем, к которой он был не способен. В конце концов, его начальник, человек тучный и благосклонный, но в то же время принципиальный и не дающий поблажек, заявил, что больше не будет платить деньги за бездельничанье, указав тем самым молодому пареньку пальцем на дверь.
Это привело к классическому и архиизвестному сорту нищеты, которая была изведана и задокументирована многочисленными авторами, испытавшими её до него. Бедолага ни на что не годился и не был способен ни к одному из видов ежедневной работы, ярмо которой тащили на себе так безропотно и исправно окружающие его нормалоиды. Если бы человеческие типажи можно было приравнять к сортам яблок, то он определённо принадлежал к наидичайшему и наикислейшему из них, и никакая варка в сахаре не была бы в состоянии его подсластить. Как рассудительно подметил Бальзак в свои зрелые годы: «Подобным людям нужно больше времени, чтобы вызреть, и “вызревать” им желательно, распластавшись на соломенном ложе».
Позднее он сделал расчёт и на основе приблизительных вычетов, он высчитал, что из десяти прожитых лет, восемь он провёл в состоянии полуголода, при этом прикрывая своё хилое тельце лишь рубищем, даже в сезон холодов.
Планомерно вытесняя себя из всевозможных парадигм существования нормалоидов, пытаясь не попасться в ловушки, наставляющие на «единственно верный способ существования», целью которого является рвачество, развлечения и комфорт, он понял, что нисходит до самых прямолинейных приемов. Пожинающий днём и исследующий ночью, он голодал, выискивая «пищу», разбросанную вдоль степей всеобщего эгоизма, пищу которую можно бы было склевать, пытаясь умилостивить нутро, вопящее так истошно по поводу удовлетворения естественных потребностей.
Вынужденный отложить свой литературный расцвет на неопределенное время, он спрятал свою драгоценную голову под осколки иллюзий и кинулся обгладывать своё сердце на перекрестках равнодушия: «Эта эпоха сумерек была средневековьем моей эры, поэтому до послезавтра христианский ренессанс! Мы ещё свидимся», – говорил он тогда...
…Son auge unique, l'emploi de copiste qui avait été le prétexte et le moyen de son embauchage pour la lutte parisienne, à laquelle il était si merveilleusement impropre, il le perdit au bout de quelques mois. Son chef de bureau, vieillard adipeux et favorable, mais plein de principes et sans faiblesses, lui révéla, un jour, que l'administration ne le payait pas pour ne rien faire et le mit tranquillement à la porte avec une dignité incroyable.
Ce fut la misère classique et archiconnue, tant de fois explorée et décrite. Le pauvre garçon n'était bon absolument à rien. Il était de ces fruits sauvages, d'une âpreté terrible, que la cuisson même n'édulcore pas et qui ont besoin de mûrir longtemps «sur la paille,» ainsi que Balzac l'a judicieusement observé dans son âge mûr.
Il a fait plus tard ce calcul basé sur d'approximatives défalcations qu'il avait passé, alors, huit années entières sur dix, sans prendre aucune nourriture ni porter aucune sorte de vêtement!
Successivement évincé de toutes les industries et de tous les trucs suggérés par l'ambition de subsister, il se vit réduit à condescendre aux plus linéamentaires expédients. Ramasseur diurne et noctambule investigateur, il s'acharna faméliquement à la recherche de tout ce qui peut être glané ou picoré, dans les mornes steppes de l'égoïsme universel, par le besoin le plus fléchisseur, en vue d'apaiser l'intestinale vocifération.
Forcé d'ajourner indéfiniment son éclosion littéraire, il enfouit sa précieuse tête sous les décombres de ses illusions et s'en alla se ronger le cœur dans les carrefours de l'indifférence: "Cette époque de ténèbres a été le Moyen Age de mon ère, disait-il, au lendemain de sa renaissance chrétienne"…
***
...В действительности, о чём ещё в наши дни может мечтать подросток, которого раздражает современность, не предлагающая ничего, кроме скучных дисциплин, наставляющих на заблёванный путь становления торгашом или конторщиком? Крестовые походы остались в прошлом, а далёкие странствия больше не выглядят столь захватывающими, ведь весь земной шар погрузился в пучину благоразумия и на каждом пересечении, ведущем к бесконечности, разбросаны экскременты англо-саксонского сорта, имя которым – прогрессивное мышление... Но осталось ещё искусство, подлинное, запрещённое искусство, презираемое обществом, подобное рабу, растерзанному львами во время боёв гладиаторов, искусство, напоминающее голодного беглеца, поруганное, катакомбное искусство. И именно оно являет собой единственное убежище для тех немногочисленных, возвышенных душ, обречённых тащить свою многострадальную оболочку в виде человеческого тела, вдоль засранных перекрёстков этого протухшего мира... Бедолага ещё не знал, какие муки приходится претерпевать вольнодумцам. Ведь никто в его затхлой провинции не мог научить его стойко переносить эти страдания и ироничное презрение отца, решительно враждебное любому честолюбивому замыслу, который он сам никогда не был в состоянии осуществить, могло выступать лишь только как дополнительный стимул в этом деле. Кроме того, он думал, что обладает сердцем мученика, способного вынести всё...
…Au fait, que diable voulez-vous que puisse rêver, aujourd'hui, un adolescent que les disciplines modernes exaspèrent et que l'abjection commerciale fait vomir? Les croisades ne sont plus, ni les nobles aventures lointaines d'aucune sorte. Le globe entier est devenu raisonnable et on est assuré de rencontrer un excrément anglais à toutes les intersections de l'infini. Il ne reste plus que l'Art. Un art proscrit, il est vrai, méprisé, subalternisé, famélique, fugitif, guenilleux et catacombal. Mais, quand même, c'est l'unique refuge pour quelques âmes altissimes condamnées à traîner leur souffrante carcasse dans les charogneux carrefours du monde.
Le malheureux ne savait pas de quelles tortures il faut payer l'indépendance de l'esprit. Personne, dans sa sotte province, n'eût été capable de l'en instruire et l'ironique mépris de son père, résolument hostile à tout ambitieux dessein qu'il n'eût pas couvé lui-même, ne pouvait être qu'un stimulant de plus. D'ailleurs, il se croyait un cœur de martyr, capable de tout endurer…
***
...На Париж опустился ужасающий грохот, так как настал тот час, когда вдоволь выдрыхшаяся человеческая масса повылезала из своих логовищ, чтобы растечься зловонной рекой вдоль эксцентричных кварталов и их близлежащих окрестностей, которые тут же заполнились мычаньем, так навевавшим коровье. Милионноногое стадо, алчное до денег и роскоши, выползло на «охоту». Суверенный пролетарий, высунув пропитую морду из своей псиной конуры, двинулся по направлению к предполагаемому месту работы; канцелярские крысы, не столь величественные, но в то же время не лишённые самомнения, направлялись в конторки, дабы исполнять, как и прежде, свои идиотские, административные обязанности; дельцы, тряпочные душонки которых были обильно вымазаны экскрементами, не накануне, а задолго до сегодняшнего дня, даже не удосужившись вымыть свои похабные хари, вприпрыжку бежали проворачивать новые афёры; армия мелких лавочников сновала из стороны в сторону, обмозговывая, как бы им попроще «завоевать мир»; пустоголовые, с фосфоресцентным цветом лица, с синяками под глазами после «сомнительных ночей», они гордо барахтались на донышке этого так называемого кипящего котла, бульканье в котором, ознаменовывало хоть и вялое, но «всё ещё функционирование» их рудиментарного разума. Париж кишел вонючими паразитами всех сортов, которые извивались словно земляные черви, среди ужасающего гула, который издавали повозки, проносящиеся вдоль проезжей части...
…C'était l'heure où la pire brute, assouvie de son repos, sort de ses antres et coule à pleines rues dans tout Paris. La besogneuse pécore aux millions de pieds, coureuse d'argent ou de luxure, mugissait aux alentours, dans cet excentrique quartier. Le prolétaire souverain, à la gueule de bois, s'élançait de son chenil vers d'hypothétiques ateliers; l'employé subalterne, moins auguste, mais de gréement plus correct, filait avec exactitude sur d'imbéciles administrations; les gens d'affaires, l'âme crottée de la veille et de l'avant-veille, couraient, sans ablutions, à de nouveaux tripotages; l'armée des petites ouvrières déambulait à la conquête du monde, la tête vide, le teint chimique, l'œil poché des douteuses nuits, brimbalant avec fierté de cet arrière-train autoclave, où s'accomplissent, comme dans leur vrai cerveau, les rudimentaires opérations de leur intellect. Toute la vermine parisienne grouillait en puant et déferlait, dans la clameur horrible des bas négoces du trottoir ou de la chaussée...
***
…Когда отец отправил меня в лицей, жизнь для меня в мгновение обернулась адом. Оглушённый страхом, презираемый другими детьми, дурость которых вселяла в меня ужас, подвергавшийся постоянным насмешкам со стороны педантичных снобов, которые обсмеивали меня перед моими товарищами, я погрузился в состояние безмолвного презрения по отношению к жизни и начал походить на молодого, безмозглого тупицу.
Эта блажь страданий, также, как и постоянная нервозность, от которой тянет под сердцем, обыкновенно присущая меланхоличным детям, которые были выброшены в учебные заведения, напоминающие порой исправительные, только усилили для меня невозможность представить себе какие-либо другие условия существования, которые бы могли выглядеть более-менее сносными. Мне казалось, что я свалился с высоченного облака в кучу зловонных отходов, люди в которой напоминали мне паразитов. Таким виделось мне человеческое общество в 14-ть лет, таким же я вижу его и сейчас.
Однажды, злонамеренность моих сверстников перешла все мыслимые границы, и я взъерепенился не на шутку. Схватив кухонный нож, который, к счастью, выглядел безобидно, я бросился, словно припадочный, на группу людей, состоящую из сорока молодых смехуйков, порезав двоих или троих из них в итоге. После потасовки, меня подняли из-под ударов, яростного, взъерошенного; и, честно признаться, чувствовал себя я тогда восхитительно. К сожалению, увечья нанесённые моим ножом были не столь существенными – несколько порезов, но после этого отец всё-таки решился уберечь меня от дальнейшего пребывания в отупляющем учреждении, позволив обучаться дома...
…Quand il me mit au lycée, ce fut un enfer. Hébété déjà par la crainte, méprisé des autres enfants dont la turbulence me faisait horreur, bafoué par d'ignobles cuistres qui m'offraient en risée à mes camarades, puni sans relâche et battu de toutes mains, je finis par tomber dans un taciturne dégoût de vivre qui me fit ressembler à un jeune idiot.
Cette parfaite détresse, cette perpétuelle constriction du cœur, ordinairement dévolue aux enfants mélancoliques dans les pénitentiaires de l'Université, s'aggravait pour moi de l'impossibilité de concevoir une condition terrestre qui fût moins atroce. Il me semblait être tombé, j'ignorais de quel empyrée, dans un amas infini d'ordures où les êtres humains m'apparaissaient comme de la vermine. Telle était, à quatorze ans, et telle est encore, aujourd'hui, ma conception de la société humaine!
Un jour, cependant, je me révoltai, la malice de mes condisciples ayant dépassé je ne sais plus quelles bornes. Je dérobai un couteau de réfectoire heureusement inoffensif et m'élançai, après une bravade emphatique, sur un groupe de quarante jeunes drôles dont je blessai deux ou trois. On me releva écumant, broyé de coups, superbe. Mon couteau avait fait peu de mal, à peine quelques écorchures, mais mon père, dut me retirer de l'abrutissant séjour et me garder à la maison…
***
...Работёнка переписчиком, в одной из парижских контор, представлялась ему персональным корытом, в которое он окунулся с головой, чтобы принять участие в так называемой борьбе за место под солнцем, к которой он был не способен. В конце концов, его начальник, человек тучный и благосклонный, но в то же время принципиальный и не дающий поблажек, заявил, что больше не будет платить деньги за бездельничанье, указав тем самым молодому пареньку пальцем на дверь.
Это привело к классическому и архиизвестному сорту нищеты, которая была изведана и задокументирована многочисленными авторами, испытавшими её до него. Бедолага ни на что не годился и не был способен ни к одному из видов ежедневной работы, ярмо которой тащили на себе так безропотно и исправно окружающие его нормалоиды. Если бы человеческие типажи можно было приравнять к сортам яблок, то он определённо принадлежал к наидичайшему и наикислейшему из них, и никакая варка в сахаре не была бы в состоянии его подсластить. Как рассудительно подметил Бальзак в свои зрелые годы: «Подобным людям нужно больше времени, чтобы вызреть, и “вызревать” им желательно, распластавшись на соломенном ложе».
Позднее он сделал расчёт и на основе приблизительных вычетов, он высчитал, что из десяти прожитых лет, восемь он провёл в состоянии полуголода, при этом прикрывая своё хилое тельце лишь рубищем, даже в сезон холодов.
Планомерно вытесняя себя из всевозможных парадигм существования нормалоидов, пытаясь не попасться в ловушки, наставляющие на «единственно верный способ существования», целью которого является рвачество, развлечения и комфорт, он понял, что нисходит до самых прямолинейных приемов. Пожинающий днём и исследующий ночью, он голодал, выискивая «пищу», разбросанную вдоль степей всеобщего эгоизма, пищу которую можно бы было склевать, пытаясь умилостивить нутро, вопящее так истошно по поводу удовлетворения естественных потребностей.
Вынужденный отложить свой литературный расцвет на неопределенное время, он спрятал свою драгоценную голову под осколки иллюзий и кинулся обгладывать своё сердце на перекрестках равнодушия: «Эта эпоха сумерек была средневековьем моей эры, поэтому до послезавтра христианский ренессанс! Мы ещё свидимся», – говорил он тогда...
…Son auge unique, l'emploi de copiste qui avait été le prétexte et le moyen de son embauchage pour la lutte parisienne, à laquelle il était si merveilleusement impropre, il le perdit au bout de quelques mois. Son chef de bureau, vieillard adipeux et favorable, mais plein de principes et sans faiblesses, lui révéla, un jour, que l'administration ne le payait pas pour ne rien faire et le mit tranquillement à la porte avec une dignité incroyable.
Ce fut la misère classique et archiconnue, tant de fois explorée et décrite. Le pauvre garçon n'était bon absolument à rien. Il était de ces fruits sauvages, d'une âpreté terrible, que la cuisson même n'édulcore pas et qui ont besoin de mûrir longtemps «sur la paille,» ainsi que Balzac l'a judicieusement observé dans son âge mûr.
Il a fait plus tard ce calcul basé sur d'approximatives défalcations qu'il avait passé, alors, huit années entières sur dix, sans prendre aucune nourriture ni porter aucune sorte de vêtement!
Successivement évincé de toutes les industries et de tous les trucs suggérés par l'ambition de subsister, il se vit réduit à condescendre aux plus linéamentaires expédients. Ramasseur diurne et noctambule investigateur, il s'acharna faméliquement à la recherche de tout ce qui peut être glané ou picoré, dans les mornes steppes de l'égoïsme universel, par le besoin le plus fléchisseur, en vue d'apaiser l'intestinale vocifération.
Forcé d'ajourner indéfiniment son éclosion littéraire, il enfouit sa précieuse tête sous les décombres de ses illusions et s'en alla se ronger le cœur dans les carrefours de l'indifférence: "Cette époque de ténèbres a été le Moyen Age de mon ère, disait-il, au lendemain de sa renaissance chrétienne"…
***
...В действительности, о чём ещё в наши дни может мечтать подросток, которого раздражает современность, не предлагающая ничего, кроме скучных дисциплин, наставляющих на заблёванный путь становления торгашом или конторщиком? Крестовые походы остались в прошлом, а далёкие странствия больше не выглядят столь захватывающими, ведь весь земной шар погрузился в пучину благоразумия и на каждом пересечении, ведущем к бесконечности, разбросаны экскременты англо-саксонского сорта, имя которым – прогрессивное мышление... Но осталось ещё искусство, подлинное, запрещённое искусство, презираемое обществом, подобное рабу, растерзанному львами во время боёв гладиаторов, искусство, напоминающее голодного беглеца, поруганное, катакомбное искусство. И именно оно являет собой единственное убежище для тех немногочисленных, возвышенных душ, обречённых тащить свою многострадальную оболочку в виде человеческого тела, вдоль засранных перекрёстков этого протухшего мира... Бедолага ещё не знал, какие муки приходится претерпевать вольнодумцам. Ведь никто в его затхлой провинции не мог научить его стойко переносить эти страдания и ироничное презрение отца, решительно враждебное любому честолюбивому замыслу, который он сам никогда не был в состоянии осуществить, могло выступать лишь только как дополнительный стимул в этом деле. Кроме того, он думал, что обладает сердцем мученика, способного вынести всё...
…Au fait, que diable voulez-vous que puisse rêver, aujourd'hui, un adolescent que les disciplines modernes exaspèrent et que l'abjection commerciale fait vomir? Les croisades ne sont plus, ni les nobles aventures lointaines d'aucune sorte. Le globe entier est devenu raisonnable et on est assuré de rencontrer un excrément anglais à toutes les intersections de l'infini. Il ne reste plus que l'Art. Un art proscrit, il est vrai, méprisé, subalternisé, famélique, fugitif, guenilleux et catacombal. Mais, quand même, c'est l'unique refuge pour quelques âmes altissimes condamnées à traîner leur souffrante carcasse dans les charogneux carrefours du monde.
Le malheureux ne savait pas de quelles tortures il faut payer l'indépendance de l'esprit. Personne, dans sa sotte province, n'eût été capable de l'en instruire et l'ironique mépris de son père, résolument hostile à tout ambitieux dessein qu'il n'eût pas couvé lui-même, ne pouvait être qu'un stimulant de plus. D'ailleurs, il se croyait un cœur de martyr, capable de tout endurer…

