Владимир Бекмеметьев
Поэт, прозаик. Родился в 1991 году в г. Кизел Пермской области. Окончил философско-социологический факультет ПГНИУ. Тексты публиковались в журналах «Вещь», «Здесь», «Контекст», «Русский Пионер», литературном альманахе «Переделкино»; интернет-изданиях «Полутона», «Stenograme», «Артикуляция», «Флаги», «изъян», «rosamundi». Лонг-лист «Премии Русского Гулливера» (2014). Лонг-лист «Премии им. Евгения Туренко» (2016). Лонг-лист литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (2019). Автор книги стихов «Недужный падеж» (Екб.: «Полифем», 2017). Главный редактор журнала «Хижа». Живёт в Перми.
«Мир маленький, словно апельсин»
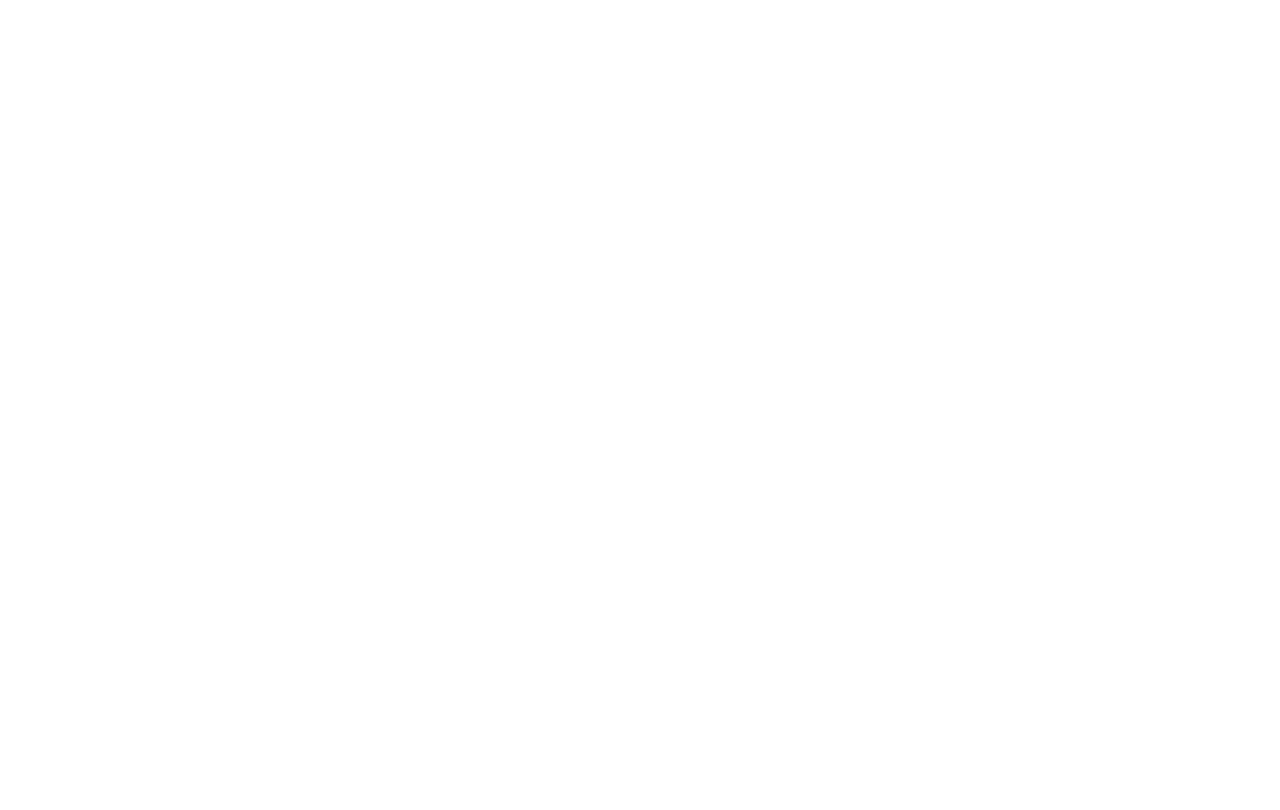
Фортье Доминик Города на бумаге. Жизнь Эмили Дикинсон. Издательство Ивана Лимбаха, 2022. Пер. с фр. А. Н. Смирновой.
Кажется, мы начали забывать, что не едиными Каркозой и Иннсмутом богаты Соединенные Штаты, сколько ещё существует таинственных, невидимых, воображаемых городов?
«Эмили – деревянный городок», – так открывается книга «Города на бумаге. Жизнь Эмили Дикинсон». Житийной приписке не стоит слишком доверять, наивно-буквалистски уповать на правдивое раскрытие жизни поэтессы. Книга эта – не биография, не научное исследование, не спекулятивный фикшн, где Дикинсон, предположим, недовольная ролью матриарха среди канонического сонма белых мужчин пускается во все квир-тяжкие (как в недавнем сериале). «Слишком загадочное существо, чтобы разгадать её за час разговора», – писал об амхертской затворнице один из главных адресатов её писем, Томас Хиггинсон, главный редактор журнала «Атлантик».
Вообще, о Дикинсон написано много, в том числе на те темы, которые затрагиваются в книге (например, о садах – «Emily Dickinson's Gardening Life: The Plants and Places That Inspired the Iconic Poet», о гербарии – прекрасное эссе Полины Барсковой https://seance.ru/blog/dickinson-herbarium/).
Но важность «Городов на бумаге» канадской писательницы Доминик Фортье в том, что загадочная Эмили показана нестабильной, текучей, оборотнической, вырывающейся из липких лап идолатрии в нынешний век специализации. Обобщениям образ поэтессы подвергался со времён её кончины: в посмертном издании стихов Дикинсон, под редакцией Мейбл Тодд и Хиггинсона, были подвергнуты исправлениям особенности её текстов, исправлены рифмы и пунктация. В таком виде издание книг поэтессы продолжалось более полувека. В книге Фортье не пойдёт речь об Эмили Дикинсон как о профем-иконе, стерильном поп-идоле, предтече англо-американского модернизма, но зато мы узнаем, что настоящие её спутники – огромная собака, холмы и Апокалипсис.
Эмили – не деревянный городок. Эмили – это постоянное не, если встать на путь апофатики. «Мир. Мир маленький, словно апельсин. Он невероятно сложен и абсолютно прост». Представьте, что городков Эмили множество, как Петербургов или Одесс на просторах Соединенных Штатов Америки, и они рифмуются, сообщаются, связываются с друг другом, как пучки трав, фасции.
Вслед за писательницей вглядываемся в (единственную) дагеротипную фотографию Дикинсон: такую мелькающе-знакомую. Дагеротипия – «зеркало с памятью». Вот она, непослушная Фуксия из «Горменгаста» Мервина Пика, а вот напоминает кукольным личиком девушку-гельфлинга из «Тёмного кристалла». Иллюзия? Копия? Дикинсон повсюду.
«Города на бумаге» не приближают и не отдаляют нас от Дикинсон, но предлагают путеводные ухищрения оптики. Ведь и самой Эмили «так хорошо и свободно внутри призмы, которую образует на стекле её комнаты капля дождя, одна единственная». Как сказал уже в веке XX-ом немецкий поэт Готфрид Бенн: «Я оптик, я работаю с линзами».
«Эмили приоткрывает окно, и у нее перехватывает дыхание. В голову ударяют ароматы. С тех пор как она стала рассматривать мир с высоты своей спальни, он сделался насыщенней и ярче. Словно оконная рама фокусирует и концентрирует цвета наподобие первых фотоаппаратов, камера-обскура. Чтобы видеть мир еще лучше, чтобы впитать его весь целиком, на него надо бы посмотреть сквозь замочную скважину».
Книга предлагает отчасти вуайеристский погляд, тип рассмотрения «подстриженными» глазами. Мир творческой иллюзии и мир снотворческий. Неслучайно Доминик Фортье упоминает камеру обскура.
Как пишет медиа-теоретик Джонатана Крэри: «Камера обскура индивидуировала наблюдателя, в ее темных границах он был изолирован, замкнут и, в конечном итоге, автономен. Камера провоцировала своего рода аскезу, или отделение от мира, и наблюдатель мог прояснить и отрегулировать характер своих отношений с многообразием мира, который оказывался для него «внешним».
Город Дикинсон хрупок, концелетен. И книга намекает: нельзя попасть в город целиком, это будет гулливерским захватом, да, где-то необходимо приуменьшиться, но не притвориться, а претвориться. Так поступает и сама авторка «Городов на бумаге», медля с посещением родного для Дикинсон Армхерста, но находя городок Эмили в Бостоне, и своим личным опытом показывая, что поэзия – искусство, подобное кулинарии, садоводству, шитью. Фортье рассказывает о сложностях меблировки квартиры, о проблемах с отоплением, о покупке картинок для украшения дома.
Сам же я, благодаря путеводителю по городу Эмили, узнал, что «затворница из Амхерста», как и я, тоже не умела определять время по механическим часам.
На странице 135 я начал подозревать, что «Города на бумаге» должны скрывать и фигуры сестёр Бронте (как будто по завещанию Ж.Батая) — вот они на странице 142.
Город Эмили не изолирован, скорее, он часть матрополии, где всегда кипит жизнь, даже если это жизнь готорновского "The Outcast of the Universe".
Дверь заперта. Вселенная герметично закрыта. Нотные половицы, гусиное перо, напоминающее шуршание мышки, страница. C.154. Желание превратиться в аскетичное существо на бумаге.
Дом для Дикинсон – это и могильная развёрстость, неуспокоенность, но также возможность владычества: сквозь окна особняка проглядывают герметичные мини-сцены с участием слов, которые, запечатлеваясь в стихи посредничеством Эмили, отправляются в выдвижные ящички шкафа. Дом – это постоянно работающая машинерия письма.
Слова здесь – сироты, а Эмили – им опекунша, лишённая детей из плоти и крови. Создание дома из предложений, семьи из слов в парцелированном, фрагментированном мире – задача сложная, на это уходят дни, месяца, годы. Эмили посредством персонификации образов пытается уделить каждому место на сцене. Сцены – окна возможностей. Дом – не только убежище, но и медиум.
«В свои сорок слишком она стерильна, бесплодна, неплодоносна – так говорят о земле, на которой ничего не произрастает, о рыбах, которые не мечут икру, и всех тех, кто, не произведя никакой жизни, умрут, когда завершится их собственная жизнь, не переживут своей собственной смерти».
Слова-персоны фиксируются в черновой среде быстротекущего быта, просачиваются в рецепты, обживают отчёты, но не выскочками, а актерами предстают на многообразном фоне. Расцветают среди сорняков, которые Эмили не отделяет от привилегированных трав, словно вторя Джерарду Мэнли Хопкинсу, поэту, близкому ей по духу: «Мир сей без сырости и сорняков. Был бы не мир, а мечта дураков. Пусть же струится во веки веков. Пиршество сырости и сорняков». Эмили «не любит полоть траву: растения, которые принято называть сорняками, так же прекрасны, как другие, и она позволяет им жить среди тех, что посадила сама». «Моя поэзия бедна (или скупа)», – пишет сама поэтесса.
Бедные, сорные рифмы как нескончаемая работа Присутствия, множественные внеместные тире, как вспомогательные длани-мосты, протянутые от слова к слову, упорно ввинчивающиеся в пробельное пространство.
Безнадзорные пути узоров, человека схлопывает могильная плита, книга – цветы.
Эмили наблюдает из окна траурную процессию. Даже сады замирают в последнем миге красоты, откройтесь, створы книги, гербарий окружит письмо заботой. Современница Дикинсон, английская учёная, ботаник и фотограф Анна Аткинс, создавала с помощью цианатопии оттиски различных растений, белые формы, которые так похожи на неизвестную письменность. Письмо Дикинсон как царапанье, но Эмили мечтала о гербариях из снега и дождя. Не в этом ли скрытый потенциал её стихов? Эфемерно-невообразимых.
Даже если гербарий экспозиционно сохранен, то слишком человечен, подчинён.
«Что до знаменитого гербария, нет и речи о том, чтобы его посмотреть: слишком хрупкий. Листья растений словно бумажные листы могут рассыпаться в пыль. Опять-таки: библиотека предлагает только копии, воспроизведения.»
Повсюду отпечатки. В книге учитель Эмили замечает, что её почерк похож на отпечатки доисторических птиц. Это ли не спокойное, медитативное подвижничество природы? Поэтическая работа скрытая и неведомая для посторонних, но избыточная, вечное выцарапывание, узорничание.
«Перо в руке Эмили пишет само. Оно рассказывает историю птицы – от яйца в углублении гнезда до первых неуверенных взмахов взмахов крыльями…»
Эмили-как-птица, для которой окно не препятствие, но возможность вспорхнуть вдаль мысленно (окно как возможность), птица, чье пение – это укорененная в себе радость (и необходимость) познания нескладного мира.
Согласуясь с американским философом Ричардом Керни творчество Дикинсон можно назвать «теоэпоэтическим преображением ординарного»: ангелы бродят по земле, однако здесь и сам Бог, самоумалившийся, кенотический обнаруживается в неприглядной обыденности. Но Дикинсон будто и не выискивает божественные знаки, она сама созывает Парламент, устраивает заседание, и благодаря тотальной пересборке вещей и слов через свидетельство поэтессы проявляется божественное: Бог как возможность. Обнаружение, по сути, и есть акт творения.
Когда к концу жизни Эмили замыкается в своей комнате, мы не испытываем грусти: она занята непрестанной работой, её стихи – сады, синицы, звёзды, огненная грудка заката, рифмы – снежные хлопья бури. Она заботится.
«Об этих последних годах, проведенных в одиночестве, говорят будто о каком-то сверхчеловеческом подвиге. Хотя, и я готова это повторять, следует удивляться, что не так много – писателей, уединившихся в добровольном заточении, чтобы спокойно писать. Сверхчеловеческим подвигом скорее можно назвать обычную жизнь с её вереницей обязательств и нелепых пустяков. Стоит ли удивлять, что кто-то, живущий книгами, от всего сердца желает пожертвовать ради них общением с себе подобными? Надо быть слишком высокого мнения о собственной персоне, чтобы постоянно желать общества тех, кто похож на нас».
Как знать, насколько сообщаются бумажные городки-затворы Генри Торо, Харпер Ли, Джерома Сэлинджера, Томаса Пинчона, Фланнери О’Коннор с маленьким, но величественным миром Эмили Дикинсон?
Кажется, мы начали забывать, что не едиными Каркозой и Иннсмутом богаты Соединенные Штаты, сколько ещё существует таинственных, невидимых, воображаемых городов?
«Эмили – деревянный городок», – так открывается книга «Города на бумаге. Жизнь Эмили Дикинсон». Житийной приписке не стоит слишком доверять, наивно-буквалистски уповать на правдивое раскрытие жизни поэтессы. Книга эта – не биография, не научное исследование, не спекулятивный фикшн, где Дикинсон, предположим, недовольная ролью матриарха среди канонического сонма белых мужчин пускается во все квир-тяжкие (как в недавнем сериале). «Слишком загадочное существо, чтобы разгадать её за час разговора», – писал об амхертской затворнице один из главных адресатов её писем, Томас Хиггинсон, главный редактор журнала «Атлантик».
Вообще, о Дикинсон написано много, в том числе на те темы, которые затрагиваются в книге (например, о садах – «Emily Dickinson's Gardening Life: The Plants and Places That Inspired the Iconic Poet», о гербарии – прекрасное эссе Полины Барсковой https://seance.ru/blog/dickinson-herbarium/).
Но важность «Городов на бумаге» канадской писательницы Доминик Фортье в том, что загадочная Эмили показана нестабильной, текучей, оборотнической, вырывающейся из липких лап идолатрии в нынешний век специализации. Обобщениям образ поэтессы подвергался со времён её кончины: в посмертном издании стихов Дикинсон, под редакцией Мейбл Тодд и Хиггинсона, были подвергнуты исправлениям особенности её текстов, исправлены рифмы и пунктация. В таком виде издание книг поэтессы продолжалось более полувека. В книге Фортье не пойдёт речь об Эмили Дикинсон как о профем-иконе, стерильном поп-идоле, предтече англо-американского модернизма, но зато мы узнаем, что настоящие её спутники – огромная собака, холмы и Апокалипсис.
Эмили – не деревянный городок. Эмили – это постоянное не, если встать на путь апофатики. «Мир. Мир маленький, словно апельсин. Он невероятно сложен и абсолютно прост». Представьте, что городков Эмили множество, как Петербургов или Одесс на просторах Соединенных Штатов Америки, и они рифмуются, сообщаются, связываются с друг другом, как пучки трав, фасции.
Вслед за писательницей вглядываемся в (единственную) дагеротипную фотографию Дикинсон: такую мелькающе-знакомую. Дагеротипия – «зеркало с памятью». Вот она, непослушная Фуксия из «Горменгаста» Мервина Пика, а вот напоминает кукольным личиком девушку-гельфлинга из «Тёмного кристалла». Иллюзия? Копия? Дикинсон повсюду.
«Города на бумаге» не приближают и не отдаляют нас от Дикинсон, но предлагают путеводные ухищрения оптики. Ведь и самой Эмили «так хорошо и свободно внутри призмы, которую образует на стекле её комнаты капля дождя, одна единственная». Как сказал уже в веке XX-ом немецкий поэт Готфрид Бенн: «Я оптик, я работаю с линзами».
«Эмили приоткрывает окно, и у нее перехватывает дыхание. В голову ударяют ароматы. С тех пор как она стала рассматривать мир с высоты своей спальни, он сделался насыщенней и ярче. Словно оконная рама фокусирует и концентрирует цвета наподобие первых фотоаппаратов, камера-обскура. Чтобы видеть мир еще лучше, чтобы впитать его весь целиком, на него надо бы посмотреть сквозь замочную скважину».
Книга предлагает отчасти вуайеристский погляд, тип рассмотрения «подстриженными» глазами. Мир творческой иллюзии и мир снотворческий. Неслучайно Доминик Фортье упоминает камеру обскура.
Как пишет медиа-теоретик Джонатана Крэри: «Камера обскура индивидуировала наблюдателя, в ее темных границах он был изолирован, замкнут и, в конечном итоге, автономен. Камера провоцировала своего рода аскезу, или отделение от мира, и наблюдатель мог прояснить и отрегулировать характер своих отношений с многообразием мира, который оказывался для него «внешним».
Город Дикинсон хрупок, концелетен. И книга намекает: нельзя попасть в город целиком, это будет гулливерским захватом, да, где-то необходимо приуменьшиться, но не притвориться, а претвориться. Так поступает и сама авторка «Городов на бумаге», медля с посещением родного для Дикинсон Армхерста, но находя городок Эмили в Бостоне, и своим личным опытом показывая, что поэзия – искусство, подобное кулинарии, садоводству, шитью. Фортье рассказывает о сложностях меблировки квартиры, о проблемах с отоплением, о покупке картинок для украшения дома.
Сам же я, благодаря путеводителю по городу Эмили, узнал, что «затворница из Амхерста», как и я, тоже не умела определять время по механическим часам.
На странице 135 я начал подозревать, что «Города на бумаге» должны скрывать и фигуры сестёр Бронте (как будто по завещанию Ж.Батая) — вот они на странице 142.
Город Эмили не изолирован, скорее, он часть матрополии, где всегда кипит жизнь, даже если это жизнь готорновского "The Outcast of the Universe".
Дверь заперта. Вселенная герметично закрыта. Нотные половицы, гусиное перо, напоминающее шуршание мышки, страница. C.154. Желание превратиться в аскетичное существо на бумаге.
Дом для Дикинсон – это и могильная развёрстость, неуспокоенность, но также возможность владычества: сквозь окна особняка проглядывают герметичные мини-сцены с участием слов, которые, запечатлеваясь в стихи посредничеством Эмили, отправляются в выдвижные ящички шкафа. Дом – это постоянно работающая машинерия письма.
Слова здесь – сироты, а Эмили – им опекунша, лишённая детей из плоти и крови. Создание дома из предложений, семьи из слов в парцелированном, фрагментированном мире – задача сложная, на это уходят дни, месяца, годы. Эмили посредством персонификации образов пытается уделить каждому место на сцене. Сцены – окна возможностей. Дом – не только убежище, но и медиум.
«В свои сорок слишком она стерильна, бесплодна, неплодоносна – так говорят о земле, на которой ничего не произрастает, о рыбах, которые не мечут икру, и всех тех, кто, не произведя никакой жизни, умрут, когда завершится их собственная жизнь, не переживут своей собственной смерти».
Слова-персоны фиксируются в черновой среде быстротекущего быта, просачиваются в рецепты, обживают отчёты, но не выскочками, а актерами предстают на многообразном фоне. Расцветают среди сорняков, которые Эмили не отделяет от привилегированных трав, словно вторя Джерарду Мэнли Хопкинсу, поэту, близкому ей по духу: «Мир сей без сырости и сорняков. Был бы не мир, а мечта дураков. Пусть же струится во веки веков. Пиршество сырости и сорняков». Эмили «не любит полоть траву: растения, которые принято называть сорняками, так же прекрасны, как другие, и она позволяет им жить среди тех, что посадила сама». «Моя поэзия бедна (или скупа)», – пишет сама поэтесса.
Бедные, сорные рифмы как нескончаемая работа Присутствия, множественные внеместные тире, как вспомогательные длани-мосты, протянутые от слова к слову, упорно ввинчивающиеся в пробельное пространство.
Безнадзорные пути узоров, человека схлопывает могильная плита, книга – цветы.
Эмили наблюдает из окна траурную процессию. Даже сады замирают в последнем миге красоты, откройтесь, створы книги, гербарий окружит письмо заботой. Современница Дикинсон, английская учёная, ботаник и фотограф Анна Аткинс, создавала с помощью цианатопии оттиски различных растений, белые формы, которые так похожи на неизвестную письменность. Письмо Дикинсон как царапанье, но Эмили мечтала о гербариях из снега и дождя. Не в этом ли скрытый потенциал её стихов? Эфемерно-невообразимых.
Даже если гербарий экспозиционно сохранен, то слишком человечен, подчинён.
«Что до знаменитого гербария, нет и речи о том, чтобы его посмотреть: слишком хрупкий. Листья растений словно бумажные листы могут рассыпаться в пыль. Опять-таки: библиотека предлагает только копии, воспроизведения.»
Повсюду отпечатки. В книге учитель Эмили замечает, что её почерк похож на отпечатки доисторических птиц. Это ли не спокойное, медитативное подвижничество природы? Поэтическая работа скрытая и неведомая для посторонних, но избыточная, вечное выцарапывание, узорничание.
«Перо в руке Эмили пишет само. Оно рассказывает историю птицы – от яйца в углублении гнезда до первых неуверенных взмахов взмахов крыльями…»
Эмили-как-птица, для которой окно не препятствие, но возможность вспорхнуть вдаль мысленно (окно как возможность), птица, чье пение – это укорененная в себе радость (и необходимость) познания нескладного мира.
Согласуясь с американским философом Ричардом Керни творчество Дикинсон можно назвать «теоэпоэтическим преображением ординарного»: ангелы бродят по земле, однако здесь и сам Бог, самоумалившийся, кенотический обнаруживается в неприглядной обыденности. Но Дикинсон будто и не выискивает божественные знаки, она сама созывает Парламент, устраивает заседание, и благодаря тотальной пересборке вещей и слов через свидетельство поэтессы проявляется божественное: Бог как возможность. Обнаружение, по сути, и есть акт творения.
Когда к концу жизни Эмили замыкается в своей комнате, мы не испытываем грусти: она занята непрестанной работой, её стихи – сады, синицы, звёзды, огненная грудка заката, рифмы – снежные хлопья бури. Она заботится.
«Об этих последних годах, проведенных в одиночестве, говорят будто о каком-то сверхчеловеческом подвиге. Хотя, и я готова это повторять, следует удивляться, что не так много – писателей, уединившихся в добровольном заточении, чтобы спокойно писать. Сверхчеловеческим подвигом скорее можно назвать обычную жизнь с её вереницей обязательств и нелепых пустяков. Стоит ли удивлять, что кто-то, живущий книгами, от всего сердца желает пожертвовать ради них общением с себе подобными? Надо быть слишком высокого мнения о собственной персоне, чтобы постоянно желать общества тех, кто похож на нас».
Как знать, насколько сообщаются бумажные городки-затворы Генри Торо, Харпер Ли, Джерома Сэлинджера, Томаса Пинчона, Фланнери О’Коннор с маленьким, но величественным миром Эмили Дикинсон?

