Кирилл Азёрный
Родился в 1990 году.
англоязычный и русскоязычный прозаик, поэт, переводчик.
Проза и поэзия публиковались в журналах Flatbush Review, Gone Lawn, OffCourse Literary Journal, ROAR, «Двоеточие», «Новый Мир», «Урал», и т. д.
Две книги прозы («Человек конца света», 2015 и «Три повести», 2018) вышли в издательстве «Кабинетный ученый».
Соредактор поэтического медиа "Метажурнал".
Ведет сайт электронной литературы illiterature: https://illitera.com/
Участник Международной писательской программы университета Айовы (США, 2015).
Живет в городе Хайфа (Израиль).
англоязычный и русскоязычный прозаик, поэт, переводчик.
Проза и поэзия публиковались в журналах Flatbush Review, Gone Lawn, OffCourse Literary Journal, ROAR, «Двоеточие», «Новый Мир», «Урал», и т. д.
Две книги прозы («Человек конца света», 2015 и «Три повести», 2018) вышли в издательстве «Кабинетный ученый».
Соредактор поэтического медиа "Метажурнал".
Ведет сайт электронной литературы illiterature: https://illitera.com/
Участник Международной писательской программы университета Айовы (США, 2015).
Живет в городе Хайфа (Израиль).
О пользователе стихотворения
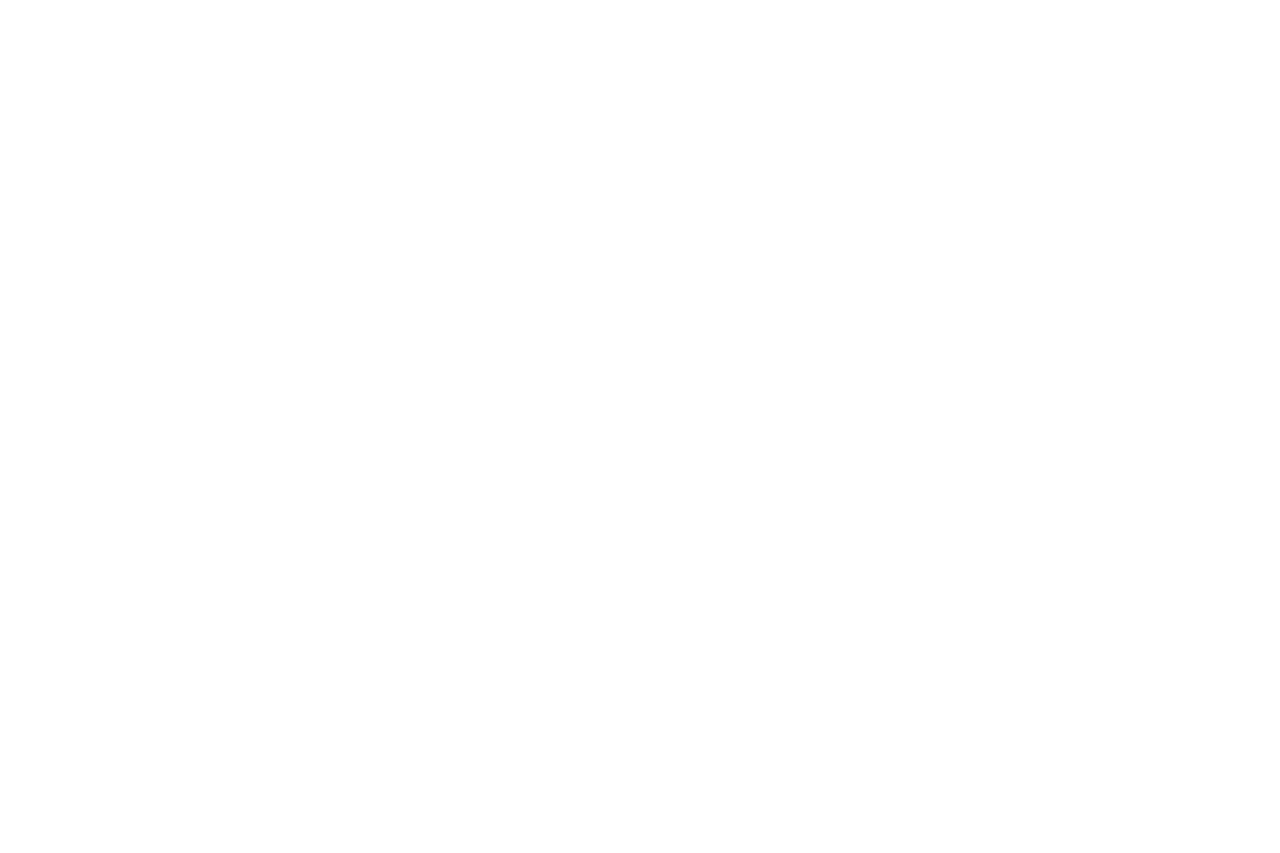
Новые медиа в поэзии напоминают о возможности возвратить ощутимое присутствие материала в сообщении, которое оказывается изнутри разбитым на окаменевшие, свернутые возможности стать чем-то другим. Игнорируя событийность высказывания, мы отказываем ему в росте и перемене, так что нам всегда приходится отменять его в его прагматическом корне, меняя движение как исходную модальность вещи. Такая подмена оказывается возможна благодаря тому, что мы отменили сопротивление среды, попросту сместив фокус на прагматику собственного восприятия. Мы отказались произнести задуманное, ограничившись прокруткой последнего в воображении, которые мы поставили выше любого истока мысли. Если бы мы могли теперь вернуть то, что отдали в жертву не ощутившему ни вкуса, ни насыщения — пустому дому праздности.
Хорошо, что мы можем снова переключиться на неудобство движения, вспомнить тесную обувь Лидии Гинзбург и подверженные коррозии шестерни — шарниры — Гастева. Мы находим новые медиа как если бы старыми, вышедшими из оборота. Это движение, смутно подверженное воздействию, ты скажешь — подверженное смутному воздействию, но да, так оно и перестает отвечать на запрос внезапного пользователя текста.
Читатель — это пользователь текста. Точка приложения его усилий не всегда совпадает с прагматикой и траекторией текста, но пользовательское восприятие вещи всегда идет против стрелки часов, которыми катится вещь. Текст существовал до того, как началось его действие, и его действие напоминает стягивание разрозненных владений смысла, своего рода мобилизацию сил. Напоминает оно и разброд, расхождение путей и швов написанного. Это зависит от все того же пользовательского взгляда — то свободного, то стремительно погруженного в тьму целеполагания.
Цифровой текст аутоактивен, его движение скрыто от глаз, но глаза никуда при этом не исчезают. Происходит учет параллельных процессов, как бы погруженных в раствор самоосмысления. Это попытки поверить в свою оставленность уехавшим текстом. Это безрукость пользователя. Текст возвращается из милости, но в следующий раз укатывает тяжелее и ярче, однозначнее. Интерактивность устроена таким образом, что самостоятельный ход механизма каждым поворотом отражает жест — по сути это всего лишь жест — нажатия. Мы вспоминаем, что и в бумажные времена иногда не могли довытащить из бесформенной папки текст, провалившийся внутрь себя, самозаключенный в безрукости. Это не могло научить нас тому, что нас ожидало — бесстыдству цифровых объектов, переодевающихся мимо нас друг в друга без всякого сочувствия с нашей стороны.
Текст, приведенный в действие привидением пальца, не возвращается к глазам, которые его проводили. Он отстраненно, отчетливо и жестко говорит о том, что не видит связи между пальцами и глазами, опрокидывая невидимость смысла в полноту действия, освещенного изнутри своей значимости.
Чего мы толком хотели прочесть, вспомнить уже невозможно. Мы никогда этого не знали. Пальцы превращаются в органы побега от целеполагания, поиска места, где можно переждать шквал порождений. Мы скроллим текст, который скроллит себя, добавляем трение и потертость бесплотному полотну бега. Бег текста, стремящегося перебежать свою неустойчивость, асинхронность. Это ведь и есть то излишество взамен необходимого, роскошь минимализма.
Цифровые медиа учат нас не хотеть заполнять пространства блуждания. Вернее сказать, они заполняют пространства письменной свободы сомнением события: цифровой текст возникает на условной бумаге как капли воды или крови. У него нет дороги: дорога занята взглядом, отправленным вслед за ним.
Электронный текст оправдывает только те ожидания, которые создает сам себе: это вечное возвращение в одну из двух непереводимостей — слова и кода, обещанного и реального. Реальное учится обещать, а обещанное — сбываться, но зазор между ними не зарастет.
Ты пользователь стихотворения, и ты намотал его на онемевшие пальцы.
Пользователь стихотворения, и ты сломал стихотворением чувствительный зуб.
Как-то так.
Хорошо, что мы можем снова переключиться на неудобство движения, вспомнить тесную обувь Лидии Гинзбург и подверженные коррозии шестерни — шарниры — Гастева. Мы находим новые медиа как если бы старыми, вышедшими из оборота. Это движение, смутно подверженное воздействию, ты скажешь — подверженное смутному воздействию, но да, так оно и перестает отвечать на запрос внезапного пользователя текста.
Читатель — это пользователь текста. Точка приложения его усилий не всегда совпадает с прагматикой и траекторией текста, но пользовательское восприятие вещи всегда идет против стрелки часов, которыми катится вещь. Текст существовал до того, как началось его действие, и его действие напоминает стягивание разрозненных владений смысла, своего рода мобилизацию сил. Напоминает оно и разброд, расхождение путей и швов написанного. Это зависит от все того же пользовательского взгляда — то свободного, то стремительно погруженного в тьму целеполагания.
Цифровой текст аутоактивен, его движение скрыто от глаз, но глаза никуда при этом не исчезают. Происходит учет параллельных процессов, как бы погруженных в раствор самоосмысления. Это попытки поверить в свою оставленность уехавшим текстом. Это безрукость пользователя. Текст возвращается из милости, но в следующий раз укатывает тяжелее и ярче, однозначнее. Интерактивность устроена таким образом, что самостоятельный ход механизма каждым поворотом отражает жест — по сути это всего лишь жест — нажатия. Мы вспоминаем, что и в бумажные времена иногда не могли довытащить из бесформенной папки текст, провалившийся внутрь себя, самозаключенный в безрукости. Это не могло научить нас тому, что нас ожидало — бесстыдству цифровых объектов, переодевающихся мимо нас друг в друга без всякого сочувствия с нашей стороны.
Текст, приведенный в действие привидением пальца, не возвращается к глазам, которые его проводили. Он отстраненно, отчетливо и жестко говорит о том, что не видит связи между пальцами и глазами, опрокидывая невидимость смысла в полноту действия, освещенного изнутри своей значимости.
Чего мы толком хотели прочесть, вспомнить уже невозможно. Мы никогда этого не знали. Пальцы превращаются в органы побега от целеполагания, поиска места, где можно переждать шквал порождений. Мы скроллим текст, который скроллит себя, добавляем трение и потертость бесплотному полотну бега. Бег текста, стремящегося перебежать свою неустойчивость, асинхронность. Это ведь и есть то излишество взамен необходимого, роскошь минимализма.
Цифровые медиа учат нас не хотеть заполнять пространства блуждания. Вернее сказать, они заполняют пространства письменной свободы сомнением события: цифровой текст возникает на условной бумаге как капли воды или крови. У него нет дороги: дорога занята взглядом, отправленным вслед за ним.
Электронный текст оправдывает только те ожидания, которые создает сам себе: это вечное возвращение в одну из двух непереводимостей — слова и кода, обещанного и реального. Реальное учится обещать, а обещанное — сбываться, но зазор между ними не зарастет.
Ты пользователь стихотворения, и ты намотал его на онемевшие пальцы.
Пользователь стихотворения, и ты сломал стихотворением чувствительный зуб.
Как-то так.

