Давид Альбахари
(перевод с сербского
Валентины Дикоевой)
(перевод с сербского
Валентины Дикоевой)
Валентина Дикоева
Пишет стихи, прозу.
переводит с сербского и английского.
Публиковалась в альманахе "Пашня".
Живёт в Сербии.
Пишет стихи, прозу.
переводит с сербского и английского.
Публиковалась в альманахе "Пашня".
Живёт в Сербии.
Давид Альбахари
родился в 1948 году. Его мать была родом из босанских сербов (в настоящее время территория Республики Сербской, Федерация Босния и Герцеговина), а отец, знаменитый в послевоенной Югославии врач-гинеколог – евреем. Это уже необычная и непростая судьба, быть ребенком в такой семье, появившимся вскоре после войны, причем на Балканах (где пострадали от геноцида и евреи, и сербы). Но наследие Давида оказалось еще тяжелее – у обоих его родителей были первые семьи, до брака друг с другом. Оба их потеряли во время Второй Мировой войны. Мать скрывалась в селах Южной Сербии с двумя маленькими детьми, называя их сербскими именами. Ее муж погиб в концентрационном лагере, а двух маленьких сыновей она потеряла в катастрофе на железной дороге, совсем вскоре после окончания войны. У отца Давида в лагере погибла вся семья, выжил только он. И вот два человека с таким опытом за спиной встретились и создали новую семью, где и родился Давид.
Возможно, при таком наследии невозможно его не осмыслять, не пытаться понять природу человеческого зла и насилия. И Альбахари пробует это делать. Он пытается написать книгу о своей матери и ее невероятной судьбе. Он даже, мучимый мыслью, что не успел как следует поговорить с отцом, собрать воспоминания до отцовской смерти, просит мать рассказать о своей жизни и записывает эти разговоры на магнитофонную пленку.
Потом эти пленки Давид возьмет с собой в эмиграцию, в далекую Канаду. Он уехал туда в 1994 году – вскоре после начала Хорватской, а затем и Боснийской войн (1992-1996), и последовавшей за ним смертью матери. А перед этим успел поработать как переводчик для сотрудников международных гуманитарных организаций и увидеть эту войну своими глазами (в том числе он участвовал в организации эвакуации еврейского населения Сараево).
Обо всем этом Альбахари пишет в книге "Mamac" ("Приманка"). О матери, об их разговорах, о том, как он вновь, уже в Канаде, переслушивает эти пленки и пытается что-то понять. Но не понимает. Пытается писать об этом книгу – и дело не клеится. Не клеится у героя-писателя, который близок Альбахари, но все же не во всем совпадает с ним. Что же получается у самого Альбахари? Его книга – о памяти, о попытках понять, объять жизнь близкого человека. Понять самого себя и себя в эмиграции (или изгнании?). Одновременно он и делает это (совершает осмысление), и терпит неудачу – и осмысливает уже ее. Речь в "Приманке" идет и о творчестве, его силе и бессилии. Мы бессильны объяснить зло или вернуть близкого, бессильны понять прожитую жизнь – но не в силах перестать это делать, перестать пытаться. Мы к этому призваны, нас это влечет – и, может быть, иногда спасает.
Давид Альбахари вернулся из Канады в Белград в 2013 году. Умер он там же, десять лет спустя, и был похоронен на Еврейском кладбище.
Он является автором более 20 книг (романов, сборников рассказов и эссе), которые получили многочисленные награды. На русский его работы ранее не переводились.
родился в 1948 году. Его мать была родом из босанских сербов (в настоящее время территория Республики Сербской, Федерация Босния и Герцеговина), а отец, знаменитый в послевоенной Югославии врач-гинеколог – евреем. Это уже необычная и непростая судьба, быть ребенком в такой семье, появившимся вскоре после войны, причем на Балканах (где пострадали от геноцида и евреи, и сербы). Но наследие Давида оказалось еще тяжелее – у обоих его родителей были первые семьи, до брака друг с другом. Оба их потеряли во время Второй Мировой войны. Мать скрывалась в селах Южной Сербии с двумя маленькими детьми, называя их сербскими именами. Ее муж погиб в концентрационном лагере, а двух маленьких сыновей она потеряла в катастрофе на железной дороге, совсем вскоре после окончания войны. У отца Давида в лагере погибла вся семья, выжил только он. И вот два человека с таким опытом за спиной встретились и создали новую семью, где и родился Давид.
Возможно, при таком наследии невозможно его не осмыслять, не пытаться понять природу человеческого зла и насилия. И Альбахари пробует это делать. Он пытается написать книгу о своей матери и ее невероятной судьбе. Он даже, мучимый мыслью, что не успел как следует поговорить с отцом, собрать воспоминания до отцовской смерти, просит мать рассказать о своей жизни и записывает эти разговоры на магнитофонную пленку.
Потом эти пленки Давид возьмет с собой в эмиграцию, в далекую Канаду. Он уехал туда в 1994 году – вскоре после начала Хорватской, а затем и Боснийской войн (1992-1996), и последовавшей за ним смертью матери. А перед этим успел поработать как переводчик для сотрудников международных гуманитарных организаций и увидеть эту войну своими глазами (в том числе он участвовал в организации эвакуации еврейского населения Сараево).
Обо всем этом Альбахари пишет в книге "Mamac" ("Приманка"). О матери, об их разговорах, о том, как он вновь, уже в Канаде, переслушивает эти пленки и пытается что-то понять. Но не понимает. Пытается писать об этом книгу – и дело не клеится. Не клеится у героя-писателя, который близок Альбахари, но все же не во всем совпадает с ним. Что же получается у самого Альбахари? Его книга – о памяти, о попытках понять, объять жизнь близкого человека. Понять самого себя и себя в эмиграции (или изгнании?). Одновременно он и делает это (совершает осмысление), и терпит неудачу – и осмысливает уже ее. Речь в "Приманке" идет и о творчестве, его силе и бессилии. Мы бессильны объяснить зло или вернуть близкого, бессильны понять прожитую жизнь – но не в силах перестать это делать, перестать пытаться. Мы к этому призваны, нас это влечет – и, может быть, иногда спасает.
Давид Альбахари вернулся из Канады в Белград в 2013 году. Умер он там же, десять лет спустя, и был похоронен на Еврейском кладбище.
Он является автором более 20 книг (романов, сборников рассказов и эссе), которые получили многочисленные награды. На русский его работы ранее не переводились.
Приманка (отрывки)
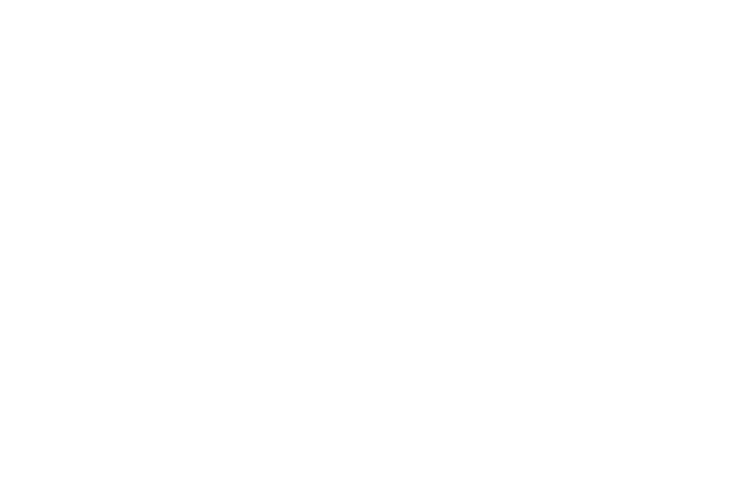
***
...В отличие от отца, готового распахнуть руки для каждого, мать умела выждать, скрестив руки на груди. Если подумать, она всегда так сидела. Кто-то бы сказал о ней: закрыла путь к сердцу. Но правильнее, меж тем, было бы сказать: закрыла путь из сердца. Если она перед кем-то опускала руки, все ее лицо менялось, и когда я был маленьким, то видел, как оно сияет. Когда дети становятся взрослыми, они перестают видеть то, что могли видеть детьми, начинают сомневаться. Но это не значит, что некогда увиденного больше не существует. Как-то раз вечером, когда мне было лет девять, мы сидели в темноте перед нашим домом в босанском селе, а от ее лица исходило сияние. Я подумал, что это свет луны, но когда поднял взгляд, увидел лишь густую темноту облака.
***
Но только, предупредил он меня сразу же, нельзя себя обманывать верой в то, что любой человек будет готов следить за ходом моей мысли. Надо понимать, что большинство людей не в состоянии и за своей мыслью проследить, что уже говорить о чужой. Это предупреждение, подчеркнул он, конечно, имело смысл только в том случае, если я правда что-то собирался запечатлеть на бумаге. Он сказал это так, будто история была буреком, который нужно положить на лист бумаги и затем что-то прочесть в жирных пятнах. Напрасно мое сопротивление, мое негодование, что нигде в природе не существует прямой линии и что все, в лучшем случае, движется по спирали. История должна иметь начало и конец, говорил Дональд, но если бы я смотрел на эти две точки и думал, что могу между ними сделать все что угодно, я жестоко бы заблуждался. Нельзя вечно колебаться, сказал он, выбирая между историей, хроникой, описанием жизни и поэзией, и при этом ожидать, сказал он, что кого-то это достаточно заинтересует, настолько, что ему захочется все это распутать. Я искренне удивился. Я спросил - но ведь если я не пишу о себе, зачем бы мне тогда писать о других? Дональд посмотрел на меня. Я видел, что у него много вопросов, которые он не задаст - а у меня и не было на них ответов. Если бы он держал пивную кружку, возможно, он бы меня ей ударил, но в руке у него была только кофейная чашечка, снаряд, который вряд ли казался ему подходящим.
***
"...Никогда я не хотела снова вернуться в Загреб, но все равно чувствовала, не нужно жить у дороги, которая все время напоминала о моем бегстве, и может, было бы лучше перебраться в Белград, на другой берег реки, чтобы защититься от..." Голос ее затих, но кассета крутилась дальше. Наклоняюсь, чтобы услышать, как я спрашиваю: "От чего?" "Оставь", отвечает мать, "это все глупости". Помню, как она отмахнулась, но я был настойчив. "Не могу поверить, что ты чего-то боялась", сказал я. "Ничего я не боялась", ответила она резко, "только думала, что все может повториться, и люди не могут стать другими, и зло, если уж оно овладело человеком, никогда больше его не отпустит". Я навалился на стол и сразу же отодвинулся, побоявшись, что стол заскрипит. "Ты и сейчас так думаешь?, спросил я. "Если ты спрашиваешь, настороже ли я, когда сплю, то мой ответ - да". Всегда она, чутко спавшая, слышала мои поздние возвращения домой и порой, в длинной ночной рубашке и с распущенными волосами, выходила меня отругать. "Но если ты спросишь, верю ли я, что все, что было тогда, может повториться, то я не так уж уверена. Хотя я могу себе представить, как по этой дороге идут другие беженцы. Может, и в ту, и в другую сторону". Я усмехнулся. И столько было в том смешке надменности и неверия, что сейчас, когда я услышал отзвук этого смеха в своем канадском жилище, захотел отвесить самому себе пощечину. Конечно же, тем путем снова шли беженцы, и конечно, все повторилось, и разумеется, стоило быть настороже, когда спишь, и совершенно точно, ни во что из этого я тогда не верил.
***
"Есть только один способ противиться злу", сказала мать, "найти в себе след доброты. Когда думаешь только о том, кто виноват, доброты в тебе уже нет. Не говорю, что надо забыть, это тоже может привести ко злу, помнить необходимо. Вот почему в еврейской общине я была так уверена. Если бы они думали о виновных, нечего им было бы искать ни в Югославии, ни в мире вообще, но они остались. Никому они не говорили - ты виноват, а вместо этого записывали все места и имена всех людей, кто там был, в книги, в поминальные списки. Настанет момент, когда вновь будут искать виновных, - они лишь покажут свои списки, и все, больше ничего не нужно". Я чувствовал, что не понимаю полностью, о чем она говорит, но не знал, какое у меня при этом было выражение лица. Сейчас я понимаю. Даже попробовал объяснить Дональду, когда он меня спросил, а из-за чего вообще там, в моей стране, идет война. Из-за вины, сказал я ему. Из-за того, что есть люди, сказал я, которые утверждают, что важно знать, кто был виновен в событиях недавнего или далекого прошлого. Тем самым появлялись новые виновные и исчезала всякая возможность жить, кроме как памятью о вине. И конечно, сказал я ему, когда обратились с просьбой к евреям, чтобы они, как свидетели, назвали виновных, еврейская община лишь предъявила списки имен и мест, а больше говорить не стала. Из списков было хорошо видно, сказал я ему, что все участники предыдущей войны (в воображении тех, кто требовал называния виновных, это та же война, что и сейчас, будто в прошлое можно вернуться), все, кроме партизан, убивали евреев. И вот поэтому еврейская община не верит, что надо называть виновных - надо называть жертв.
***
Весной 1994 года я, переводчик одной международной гуманитарной организации, ехал в Баня Луку. Война уже шла по всем фронтам, дороги были разрушены, ненадежны, мы то и дело натыкались на контрольные пункты или препятствия, и должны были их объезжать. Заросшие бородами военные изучали наши документы, спрашивали сигарет, грызли травинки и сплевывали. Когда мы приехали в Дервенту, я подумал, что так выглядела Хиросима, так выглядит поверхность луны. Мы должны были найти автомеханика; в хаосе войны только автомастерские были всегда открыты. Мать говорила, что в ее время в Дервенте жили представители четырнадцати национальностей, даже повторила это за два или три месяца накануне своей смерти, когда я еще и не думал, что поеду туда. Не ручаюсь за точность данных, да и если бы национальностей было четырнадцать, или девять, или пять, и если бы речь шла о другом месте, о Биелине, скажем, или о Брчко, ничего бы не изменилось в том, что она хотела сказать. Я спросил мастера (он скрылся под нашей машиной, подкручивал там винты, постукивал молотком по валам), кто тут сейчас живет. Никто, сказал он, только наши. Мастер вылез, вытер руки о промасленные солдатские штаны, и сказал - недалеко от моей мастерской сразу после войны возведут церковь, с самой высокой на Балканах колокольней. А тем временем мастер этот не знал, где та танцевальная зала, в которой моя мать познакомилась со своим первым мужем. Если и стоит еще, сказал он, наверняка сквозь нее ветер дует. Всюду дыры, сквозь которые видно небо. Представители гуманитарной организации спросили, могут ли они сфотографировать мастерскую, ее дырявую крышу и разбитые окна. Раньше они фотографировали не спрашивая, из машины, на ходу. И потом, когда мы уже прибыли в Баня Луку, выпускали фотоаппараты из рук, только чтобы вставить новую пленку или поменять батарейки. Перед отъездом они захотели узнать, почему почти все дома в селах, которые мы проезжали, сожжены. Докуда достигал взгляд, на всех окрестных холмах мы видели лишь обгорелые стены, сказал один из них. Мастер глянул в ответ и спросил у меня, перевел ли я им про церковь с самой высокой колокольней. Я подтвердил, и он попросил повторить. Когда я повторил, он попросил сделать это еще раз. Я подумал, что если так продолжился, то в Баня Луку мы никогда не попадем. Мастер был доволен. Этим иностранцам, сказал он, надо всегда несколько раз повторить одно и то же, а то ничего не поймут. В углу мастерской, прислонен к стене, стоял блестящий автомат. А когда мы уже с сумерках добрались таки до Баня Луки, то первым делом нас отвели на пустую площадь. Тут, сказали нам, вновь воздвигнут церковь, которую в ту войну разрушили усташи. Евреев они заставили разбирать кирпичи и строительный материал. Я не знал, вправду ли так было, хотя это и неважно. Я был всего лишь переводчиком, а не толкователем истории, да и история уже перестала существовать, осталось какое-то послеисторическое время, от которого ожидалось, что оно повторит собой другое. Словно жизнь была учебником, откуда можно выдрать отдельные страницы и заменить их новыми, а на самом деле - старыми.
...В отличие от отца, готового распахнуть руки для каждого, мать умела выждать, скрестив руки на груди. Если подумать, она всегда так сидела. Кто-то бы сказал о ней: закрыла путь к сердцу. Но правильнее, меж тем, было бы сказать: закрыла путь из сердца. Если она перед кем-то опускала руки, все ее лицо менялось, и когда я был маленьким, то видел, как оно сияет. Когда дети становятся взрослыми, они перестают видеть то, что могли видеть детьми, начинают сомневаться. Но это не значит, что некогда увиденного больше не существует. Как-то раз вечером, когда мне было лет девять, мы сидели в темноте перед нашим домом в босанском селе, а от ее лица исходило сияние. Я подумал, что это свет луны, но когда поднял взгляд, увидел лишь густую темноту облака.
***
Но только, предупредил он меня сразу же, нельзя себя обманывать верой в то, что любой человек будет готов следить за ходом моей мысли. Надо понимать, что большинство людей не в состоянии и за своей мыслью проследить, что уже говорить о чужой. Это предупреждение, подчеркнул он, конечно, имело смысл только в том случае, если я правда что-то собирался запечатлеть на бумаге. Он сказал это так, будто история была буреком, который нужно положить на лист бумаги и затем что-то прочесть в жирных пятнах. Напрасно мое сопротивление, мое негодование, что нигде в природе не существует прямой линии и что все, в лучшем случае, движется по спирали. История должна иметь начало и конец, говорил Дональд, но если бы я смотрел на эти две точки и думал, что могу между ними сделать все что угодно, я жестоко бы заблуждался. Нельзя вечно колебаться, сказал он, выбирая между историей, хроникой, описанием жизни и поэзией, и при этом ожидать, сказал он, что кого-то это достаточно заинтересует, настолько, что ему захочется все это распутать. Я искренне удивился. Я спросил - но ведь если я не пишу о себе, зачем бы мне тогда писать о других? Дональд посмотрел на меня. Я видел, что у него много вопросов, которые он не задаст - а у меня и не было на них ответов. Если бы он держал пивную кружку, возможно, он бы меня ей ударил, но в руке у него была только кофейная чашечка, снаряд, который вряд ли казался ему подходящим.
***
"...Никогда я не хотела снова вернуться в Загреб, но все равно чувствовала, не нужно жить у дороги, которая все время напоминала о моем бегстве, и может, было бы лучше перебраться в Белград, на другой берег реки, чтобы защититься от..." Голос ее затих, но кассета крутилась дальше. Наклоняюсь, чтобы услышать, как я спрашиваю: "От чего?" "Оставь", отвечает мать, "это все глупости". Помню, как она отмахнулась, но я был настойчив. "Не могу поверить, что ты чего-то боялась", сказал я. "Ничего я не боялась", ответила она резко, "только думала, что все может повториться, и люди не могут стать другими, и зло, если уж оно овладело человеком, никогда больше его не отпустит". Я навалился на стол и сразу же отодвинулся, побоявшись, что стол заскрипит. "Ты и сейчас так думаешь?, спросил я. "Если ты спрашиваешь, настороже ли я, когда сплю, то мой ответ - да". Всегда она, чутко спавшая, слышала мои поздние возвращения домой и порой, в длинной ночной рубашке и с распущенными волосами, выходила меня отругать. "Но если ты спросишь, верю ли я, что все, что было тогда, может повториться, то я не так уж уверена. Хотя я могу себе представить, как по этой дороге идут другие беженцы. Может, и в ту, и в другую сторону". Я усмехнулся. И столько было в том смешке надменности и неверия, что сейчас, когда я услышал отзвук этого смеха в своем канадском жилище, захотел отвесить самому себе пощечину. Конечно же, тем путем снова шли беженцы, и конечно, все повторилось, и разумеется, стоило быть настороже, когда спишь, и совершенно точно, ни во что из этого я тогда не верил.
***
"Есть только один способ противиться злу", сказала мать, "найти в себе след доброты. Когда думаешь только о том, кто виноват, доброты в тебе уже нет. Не говорю, что надо забыть, это тоже может привести ко злу, помнить необходимо. Вот почему в еврейской общине я была так уверена. Если бы они думали о виновных, нечего им было бы искать ни в Югославии, ни в мире вообще, но они остались. Никому они не говорили - ты виноват, а вместо этого записывали все места и имена всех людей, кто там был, в книги, в поминальные списки. Настанет момент, когда вновь будут искать виновных, - они лишь покажут свои списки, и все, больше ничего не нужно". Я чувствовал, что не понимаю полностью, о чем она говорит, но не знал, какое у меня при этом было выражение лица. Сейчас я понимаю. Даже попробовал объяснить Дональду, когда он меня спросил, а из-за чего вообще там, в моей стране, идет война. Из-за вины, сказал я ему. Из-за того, что есть люди, сказал я, которые утверждают, что важно знать, кто был виновен в событиях недавнего или далекого прошлого. Тем самым появлялись новые виновные и исчезала всякая возможность жить, кроме как памятью о вине. И конечно, сказал я ему, когда обратились с просьбой к евреям, чтобы они, как свидетели, назвали виновных, еврейская община лишь предъявила списки имен и мест, а больше говорить не стала. Из списков было хорошо видно, сказал я ему, что все участники предыдущей войны (в воображении тех, кто требовал называния виновных, это та же война, что и сейчас, будто в прошлое можно вернуться), все, кроме партизан, убивали евреев. И вот поэтому еврейская община не верит, что надо называть виновных - надо называть жертв.
***
Весной 1994 года я, переводчик одной международной гуманитарной организации, ехал в Баня Луку. Война уже шла по всем фронтам, дороги были разрушены, ненадежны, мы то и дело натыкались на контрольные пункты или препятствия, и должны были их объезжать. Заросшие бородами военные изучали наши документы, спрашивали сигарет, грызли травинки и сплевывали. Когда мы приехали в Дервенту, я подумал, что так выглядела Хиросима, так выглядит поверхность луны. Мы должны были найти автомеханика; в хаосе войны только автомастерские были всегда открыты. Мать говорила, что в ее время в Дервенте жили представители четырнадцати национальностей, даже повторила это за два или три месяца накануне своей смерти, когда я еще и не думал, что поеду туда. Не ручаюсь за точность данных, да и если бы национальностей было четырнадцать, или девять, или пять, и если бы речь шла о другом месте, о Биелине, скажем, или о Брчко, ничего бы не изменилось в том, что она хотела сказать. Я спросил мастера (он скрылся под нашей машиной, подкручивал там винты, постукивал молотком по валам), кто тут сейчас живет. Никто, сказал он, только наши. Мастер вылез, вытер руки о промасленные солдатские штаны, и сказал - недалеко от моей мастерской сразу после войны возведут церковь, с самой высокой на Балканах колокольней. А тем временем мастер этот не знал, где та танцевальная зала, в которой моя мать познакомилась со своим первым мужем. Если и стоит еще, сказал он, наверняка сквозь нее ветер дует. Всюду дыры, сквозь которые видно небо. Представители гуманитарной организации спросили, могут ли они сфотографировать мастерскую, ее дырявую крышу и разбитые окна. Раньше они фотографировали не спрашивая, из машины, на ходу. И потом, когда мы уже прибыли в Баня Луку, выпускали фотоаппараты из рук, только чтобы вставить новую пленку или поменять батарейки. Перед отъездом они захотели узнать, почему почти все дома в селах, которые мы проезжали, сожжены. Докуда достигал взгляд, на всех окрестных холмах мы видели лишь обгорелые стены, сказал один из них. Мастер глянул в ответ и спросил у меня, перевел ли я им про церковь с самой высокой колокольней. Я подтвердил, и он попросил повторить. Когда я повторил, он попросил сделать это еще раз. Я подумал, что если так продолжился, то в Баня Луку мы никогда не попадем. Мастер был доволен. Этим иностранцам, сказал он, надо всегда несколько раз повторить одно и то же, а то ничего не поймут. В углу мастерской, прислонен к стене, стоял блестящий автомат. А когда мы уже с сумерках добрались таки до Баня Луки, то первым делом нас отвели на пустую площадь. Тут, сказали нам, вновь воздвигнут церковь, которую в ту войну разрушили усташи. Евреев они заставили разбирать кирпичи и строительный материал. Я не знал, вправду ли так было, хотя это и неважно. Я был всего лишь переводчиком, а не толкователем истории, да и история уже перестала существовать, осталось какое-то послеисторическое время, от которого ожидалось, что оно повторит собой другое. Словно жизнь была учебником, откуда можно выдрать отдельные страницы и заменить их новыми, а на самом деле - старыми.

