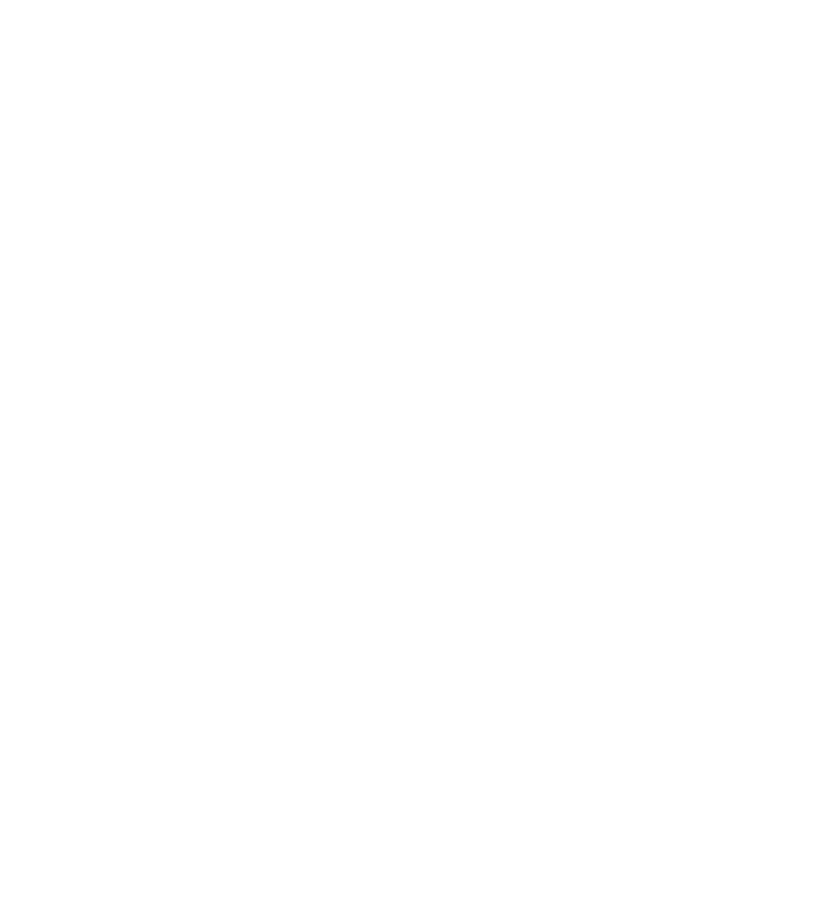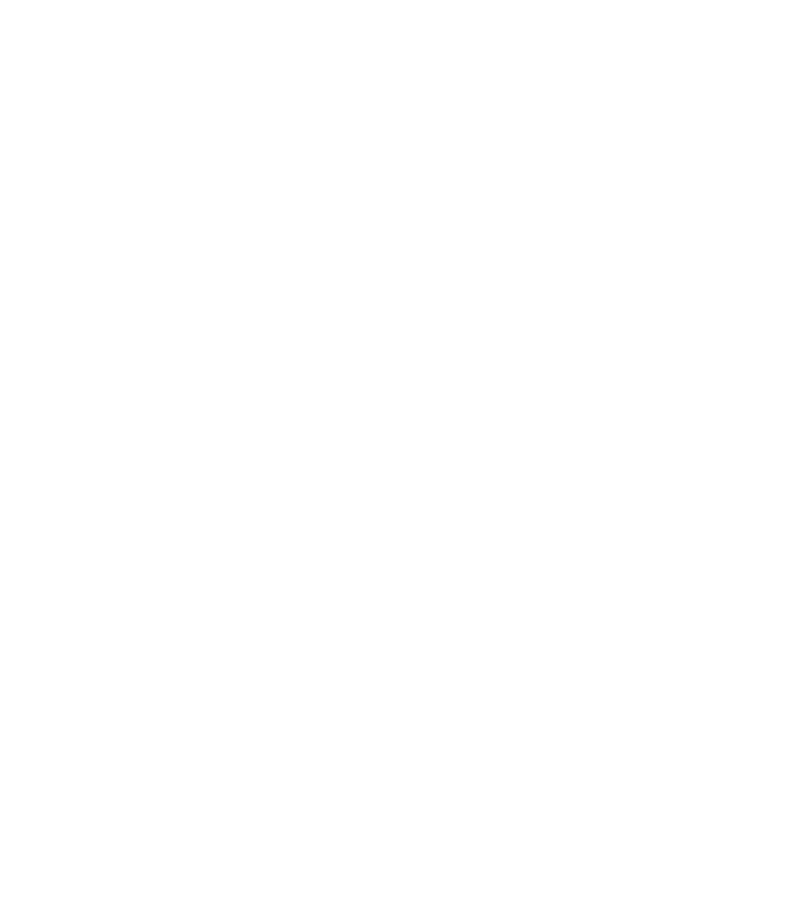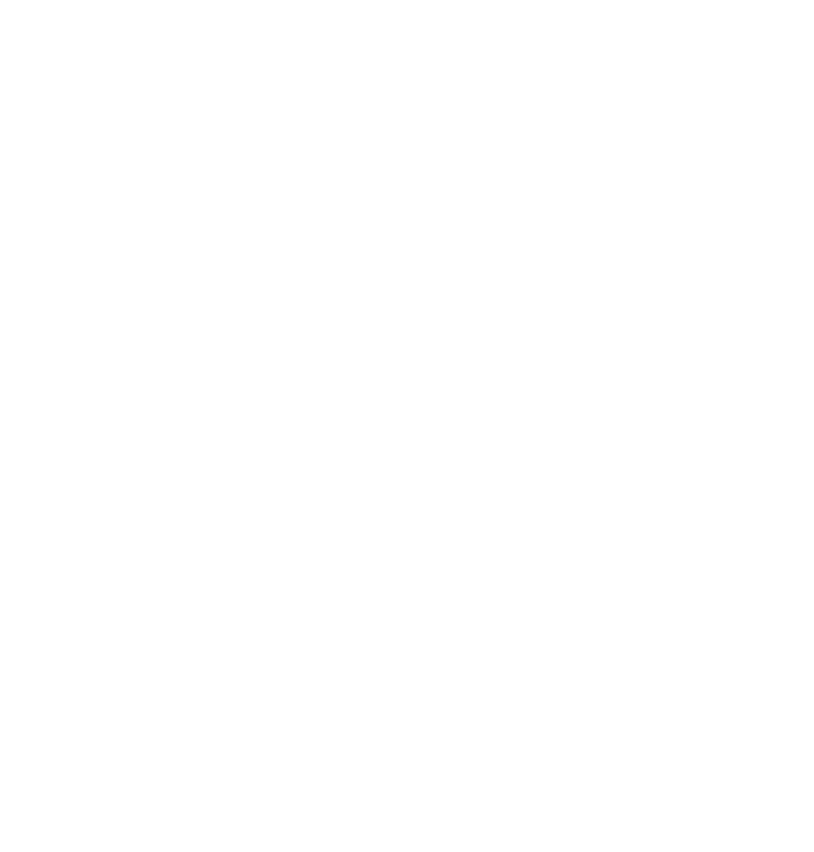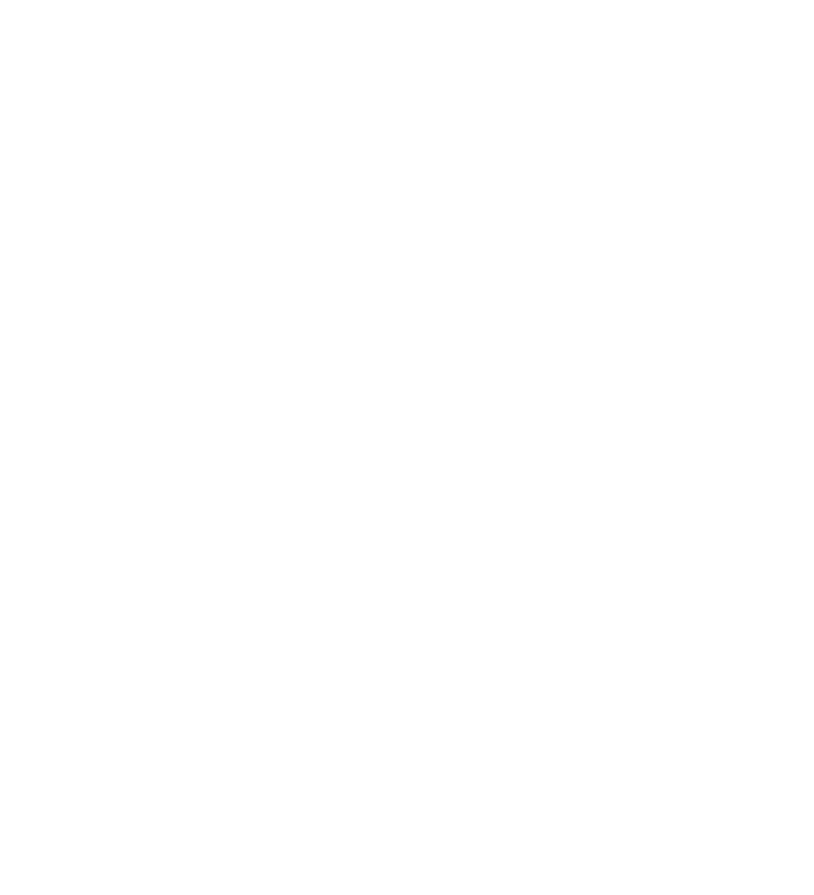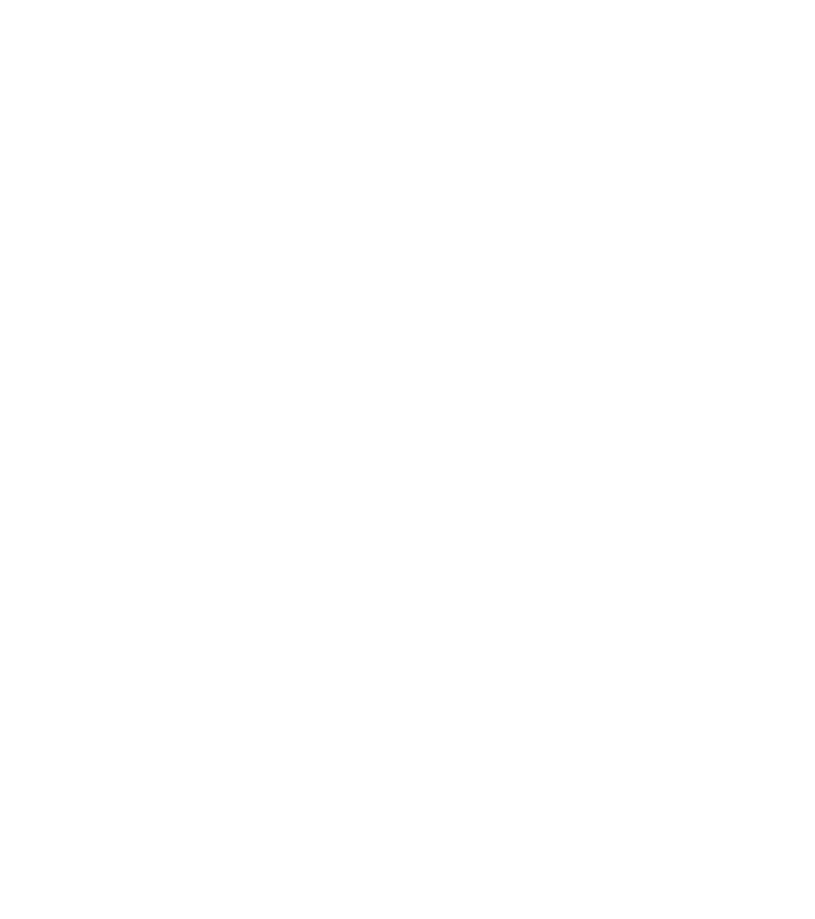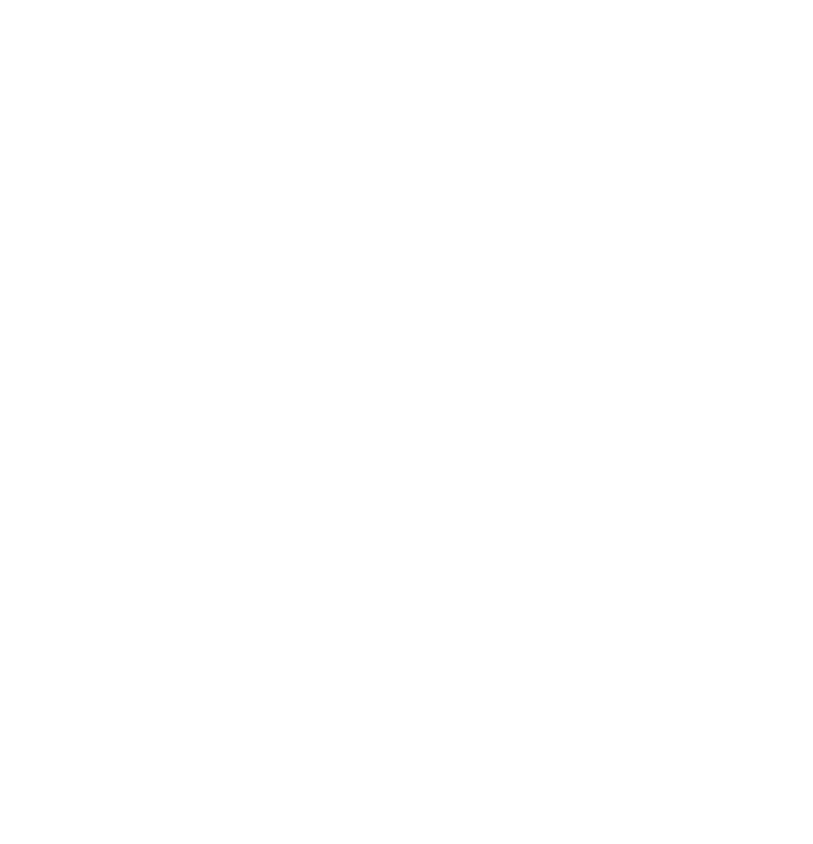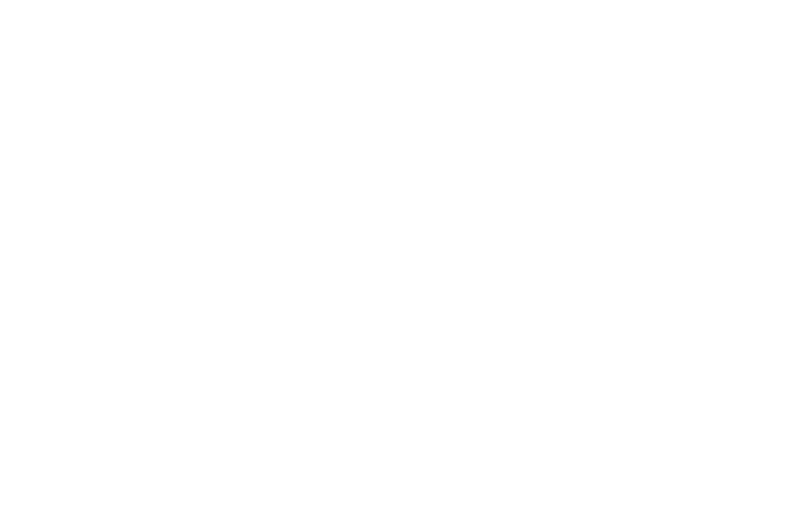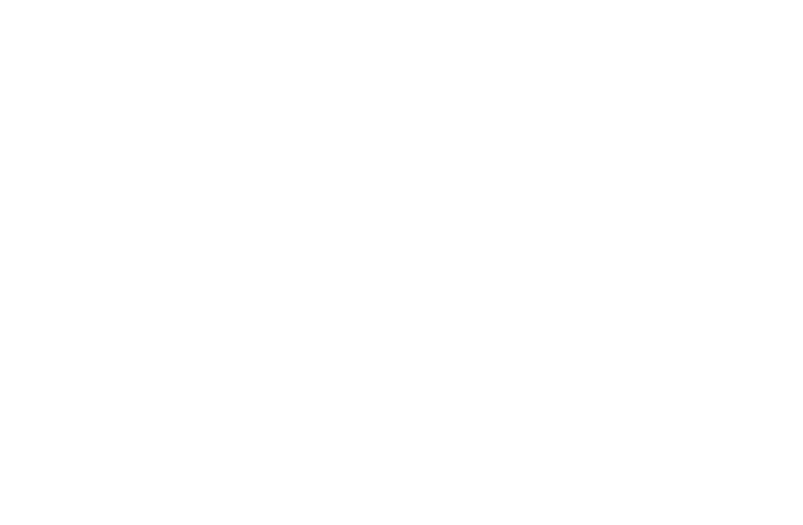Валерий Акимов
Родился в 1993 году.
В 2020 году окончил Всероссийский государственный универистет кинематографии по специальности «киноведение».
Пишу рассказы, эссе, иногда – стихи.
Публиковался в журналах «Смена», «Lumiere-mag», «Киноведческие записки».
В 2020 году окончил Всероссийский государственный универистет кинематографии по специальности «киноведение».
Пишу рассказы, эссе, иногда – стихи.
Публиковался в журналах «Смена», «Lumiere-mag», «Киноведческие записки».
Элементы речи
Тексты, собранные здесь, я писал в разные периоды жизни, поэтому в них могут быть заметны и юношеский задор, и слегка угрюмая серьёзность, свойственная человеку, когда он вступает в эпоху личностной зрелости. Но и тогда, и сейчас в литературе меня привлекала и привлекает одна вещь – язык. Как он говорит. Как звучит. Его переливы. Его настроения. Его душа. Язык – это музыка, что льётся сквозь людей. В языке время становится обратимым, а пространство развёртывается потоками изометрических плоскостей, порождая непредсказуемые и чудеснейшие узоры.
Но эксперименты с формой в литературе могут остаться лишь приятной забавой, если они не проникнуты жгучим стремлением автора выразить собственные переживания и впечатления. Ошибочно принимать заявленную Роланом Бартом «смерть автора» за простой переход от писателя (автора) к простому «скриптору», производного от якобы автохтонного текста. Можно сказать, сам автор и есть текст, вернее, автор – это сумма возможностей множества текстов, и литературные произведения, что люди читают в часы досуга или глубоких дум, являются результатом выбора из этого множества. В текстах автор «умирает», чтобы возродиться как игрок, анонимная фигура без биографии, что плывёт среди точек сингулярности, из которых вызревают совершенно разные нарративы.
Литература для меня это прежде всего возможность сойтись на время с энергийными потоками языка, услышать его речение/я, стать его письмом.
Но эксперименты с формой в литературе могут остаться лишь приятной забавой, если они не проникнуты жгучим стремлением автора выразить собственные переживания и впечатления. Ошибочно принимать заявленную Роланом Бартом «смерть автора» за простой переход от писателя (автора) к простому «скриптору», производного от якобы автохтонного текста. Можно сказать, сам автор и есть текст, вернее, автор – это сумма возможностей множества текстов, и литературные произведения, что люди читают в часы досуга или глубоких дум, являются результатом выбора из этого множества. В текстах автор «умирает», чтобы возродиться как игрок, анонимная фигура без биографии, что плывёт среди точек сингулярности, из которых вызревают совершенно разные нарративы.
Литература для меня это прежде всего возможность сойтись на время с энергийными потоками языка, услышать его речение/я, стать его письмом.
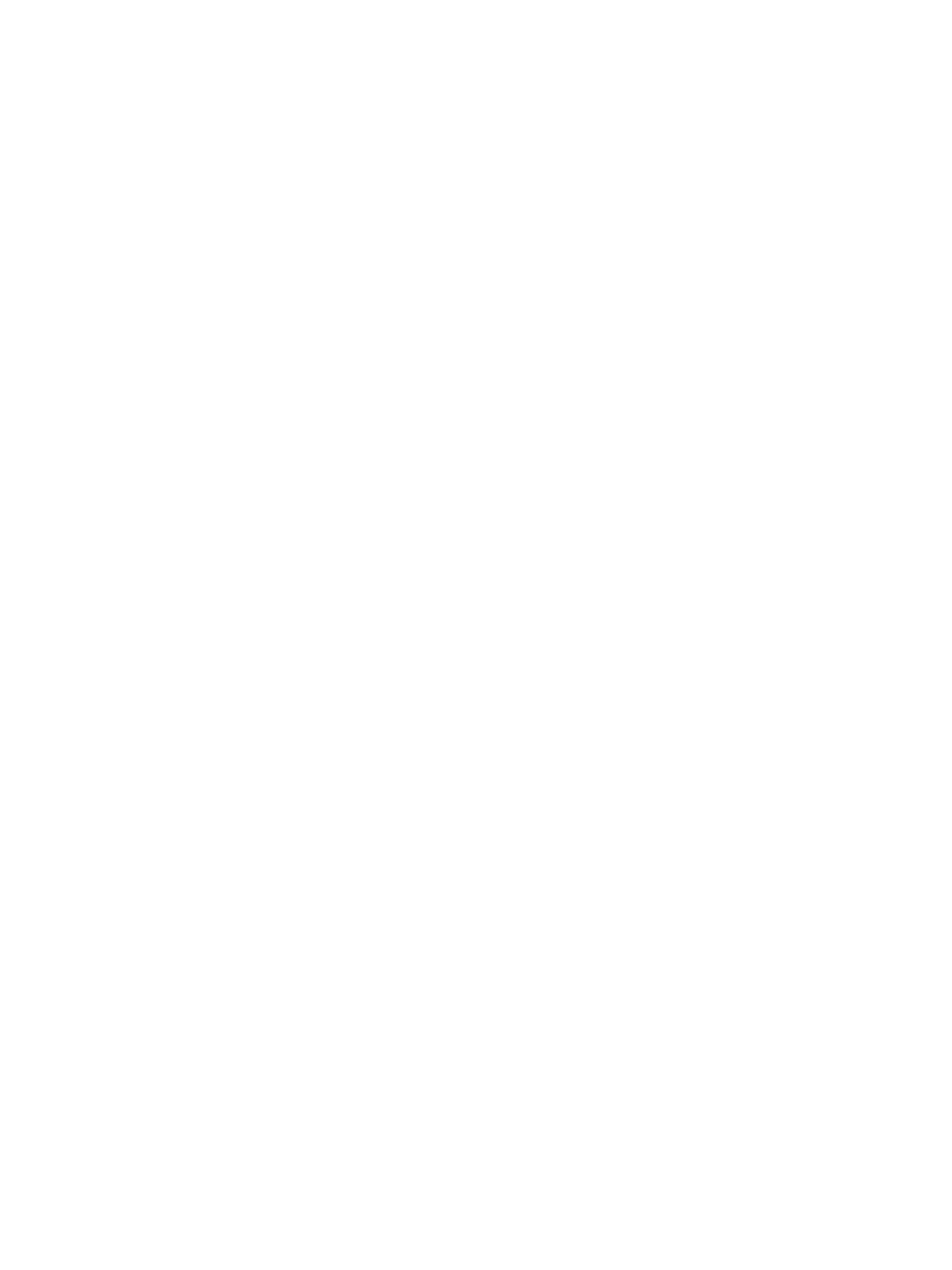
ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР
Между мыслью и безумием нет оппозиции. Безумие – это лишь вариант мысли.
Михаил Ямпольский
В самом начале громко смеёмся; время идёт, улыбка спадает, и под конец лишь тихо плачем. Разве может моё тело меня пожирать? Область тела, крохотная область, где царствует тождество «я-тело». Я пишу, значит, я жив. Язык служит напоминанием о том, что совершенство только образ несовершенства, а не этап в его становлении совершенным. Несовершенство – перманентная мутация, вечное поглощение, пищеварение, усвоение, испражнение. Несовершенство – тело Земли. Совершенство – тело Неба. При каждом новом ощущении тело перестраивается; оно – путь перцепции, средство выражения последней. Образ не позволяет дистанцироваться; образ говорит мной. Информация – не референт, не нечто упакованное, требующее декодирования, готовое к употреблению, но – само событие. Скачок, сжатие, перебежка. Память – там, речь – здесь, всё смешано и никто не слышит друг друга. Буря красок без симфонии. Речь – парадокс, она позволяет завершённому не завершаться, продолжая глотать воздух и исторгать звуки. Как именно? Вопрос с хитрецой. Тут лучше остановиться, иначе мы обменяем гортань на фонетику, и всё станет понятным, до избитого ясным, синхронным, сообщаемым, обозначенным, замещаемым. Опыт философии – невозможный опыт невозможного, потому философия сшита метафорами; первые люди все до единого были поэтами – рифма была мерой их речи, она произрастала из таинственного сочленения ещё не поделённого мира, она являлась их грамматикой, они видели звенящие пропасти между букв. В отличие от человека язык вечен. Из речей Фалеса: «Не то ничто, откуда берёт разбег бытие, а пропасть, что именуется жизнью». Я предпочитаю не верить людям, поскольку все они до конца уверены в собственной правдивости и праведности, пусть говорят иначе. Временами жить становится совершенно невыносимо, однако, есть ли какая-либо константа, превышающая саму жизнь? Внешнее жизни уже не имеет к ней никакого значения. Лицо ни от чего не зависит; лицо – это чужеродная тотальность, явление бога среди людей, как пропасть в земле, подступиться к которой земля не в силах, но в этой пропасти – сути земли. Скоро осень. Этот вечер – очередной прочерк, следующая строчка, наличествующий разрыв, короче говоря, обозначенная пустота. Эпитеты, метафоры, символы – отмирают. О чём ещё можно говорить в умирающем мире? Проще повторять за другими, но кем же ты станешь, если будешь только повторять? У меня не хватает ни сил, ни мыслей, чтобы писать. Как я могу доказать, что говоримое мною – точно моё? Ни подпись, ни почерк не разрешают вопроса. Они не имеют юридической силы. К концу дня небо прохудилось, оно стало затапливать город килотоннами воды. Я не нашёл в Питере того, что нашёл в нём Бродский; для меня это прокажённый город, он инфицирован образной системой – что ни улица, проспект, набережная – всё облеплено концептуальным флёром, который никак не отодрать, будто городские стены были изначально заложены с символической единицей внутри, этого города нет на географической карте, у него есть территория, но нет ландшафта, нельзя находится в Питере на правах туриста – это аморально; сей город примет в обитель свою только читателя. Есть города, где ощущаешь себя дикарём, сталкером, бродягой, - там архитектура существует исключительно за счёт своего исчезновения, она погружена во время и является его прямым воплощением; с Питером всё иначе: архитектура здесь – это форма присутствия, та самая открытость, подавляющая любую независимость взгляда и даже тела, отбирающая и выбирающая стили, город, который ни в коем случае не позволит себе стать объектом чужой интерпретации, в Питере это попросту невозможно; архитектура собственноручно строит и вылепляет для себя субъекта. Житель Петербурга – вот подлинное творение городского зодчества, а не Эрмитаж или Зимний дворец. Упрямо, угрюмо, монотонно вода льётся с грустных небес. Кашель рвёт горло. Содрагается всё тело. Какой-то зверь спрятался внутри, он воет, кричит, издаёт дикие рыки – прямо из груди, из самой глубины. Задача метафоры – дать символу вновь убедиться в том, что он – символ. Единственный, кого можно назвать настоящим алхимиком в наши дни, - это Пазолини. Только он смог доказать, что язык имманентен, он переоткрыл алхимию – и это стало великим событием. Древнеримский маг, Апулей нашего века, Пазолини рёк: в слове рождается вещь, слово – место рождения и условие бытия. Постоянный, непререкаемый, непрестанный, нескончаемый дождь. Везде вода – все фигуры растеряли очертания. Весь день небосвод не менял цвета; плыли по свинцовому фону серые кляксы. Вначале был цвет. Говоря «логос», эллины подразумевали цвет – первое, что я вижу, моя первая зацепка, первое ощущение, первый глоток Seyn. Первооснова мышления, отдалённая близь не-Я, место в мире – храм, святилище, ритуальный круг, где сходится божественное с земным, – сам момент по-мещения, раскрытия, встречи. До всякого разделения и разноса, цвет первым ставит границу, обрамляет и возводит Da-Sein. Цвет – первичное Другое. Прото-клякса, ещё не опознанное, но вот-вот замеченное бытие; не объект зрения, но суть и судьба взгляда, непосредственно сам взгляд – в-мещаемое в мирность. Я промок до нитки. К вечеру же, на юге, небо оказалось взрезанным невидимым ножом; сквозь рваную рану, которая в скором времени всё же заросла, сочилось тусклое солнце. Бытие не безличностно. Оно не может быть обезличенным. Бытие – это чьё-то Я, совокупность оттенков, запахов, прикосновений; будучи всегда уже запятнанным, оно никогда не было и не будет ничьим, бытие есть предикат и предикат есть бытие, и мечты о нейтральном межвидовом онтосе – пустые разглагольствования тех, кто верует, что предикат – это просто ширма, способ сокрытия абсолютной, неприкосновенной сущности, заветный предмет всеобщего не-обладания, уроженец и приемник Эдема, где не было ни имён, ни свойств. Прецедент бытия в мире – свидетельство человеческого поступка. Да, в бытии есть нечто греховное, грех рождения, грех необратимого; наверное, грех и является бытием. Один из принципов режиссуры: умение отказывать объектам (событиям) во внимании. Но известны мастера, строившие своё ремесло на молчании, ибо они находили в себе смелость поддаться исходившему от вещей обаянию. Он бы не смог стать режиссёром – для него важно подобраться к источнику определённого состояния; нечто вроде произнесения молитвы – происходит потенциирование переживания, возгонка мгновения. Говорить о любви – всё равно что каждый раз вступать на неизведанную территорию; сколько бы ни было любовей, она однаi, и всякий раз любовь свершается впервые. Любовь аннулирует память и одновременно абсолютизирует её. Память становится предметом великого отбора. Потому любящего постоянно настигают воспоминания. Любовь исчезает – выпархивает подобно душе из тела и лишает его различённости с другими телами – преданный любовью отягощён суждениями: он такой же, как все, а значит, хуже всех. Мы можем жить без любви, но не можем жить, не говоря о ней. Любовь склонна к повторениям; повторяясь, вновь и вновь запускает она цепь иных повторений; потому любовь сродни безумию, ибо безумие, то есть отсутствие вектора и векторов, представляет собой активную позицию опространствования – вещи не уничтожаются, но внезапно оживают. Попытки вызвать жалость тем и противны, что избегают прямого своего воплощения, они проскальзывают в обыденной речи, еле слышимым звоном отдаются в словах; внутри сидит заноза, и как всякая заноза, она ноет, заражает, вносит изменения в обмен веществ; вместо желания стать объектом чужой жалости сам становишься жалким. Я не любим и жалок. Я покоен, но нечто свербит в душе – одна скошенная любовь поднимает из глубин все несвершившиеся любови, и твоего тела просто недостаточно, чтобы выдержать стихийный поток непережитого. Любовь подаёт запросы, на которые человек отвечает разве что страстью – мало у кого хватает ума понять: помимо страсти есть остальная часть запроса, и удовлетворить его у человека нет никаких ресурсов; даже отдать себя – недостаточно. Безумие говорит тихо. Я несу чушь. Меня лихорадит. За дверью кто-то говорит – это не люди. Я знаю, что это не люди. Произношу твоё имя – и тут же чувствую в нём страх и риск всё потерять, рассыпать в прах. Ты была безымянной, ты была самой загадкой, наличествующей здесь и сейчас – тайна во плоти, плоть тайны. Я отхожу от тебя, я вижу тебя, но взгляд куда более широк. Я теряю тебя, постоянно теряю. Наутро я всё забуду, тогда мне будет стыдно за всё написанное здесь, но ты уже часть моего языка, неприкасаемый элемент выражения, фигура речи, лексема, которой полнится мир. Любовь – это беспрестанный призыв избытка, опрокидывание суммы явлений и событий, количественный эйдос, справиться с которым, обогнув тем самым это беспечное множество, не сможет ни одно качество: упоительный сон Демокрита, кошмарный сон Парменида. Любовь опустошает; она разоряет даже саму пустоту, и по этой причине нет такой мысли, которой удалось бы вогнать любовь в образ. Она – это событие экстраординарного масштаба, силой собственного явления любовь до неузнаваемости реформирует язык; она – предмет всех устремлений феноменологии: любовь есть собственное явление: сколько любви, столько и бытия, эпохе – метод, с которым любовь любуется, продолжает терзать и потрошить нас, бесконечная редукция к сущности, которой нет. Каждый раз любовь, овевая нас ароматом старины и неизменности, преображается. Повторяясь, она, тем не менее – всегда другая, в том числе и для себя самой. Здесь просятся слова – все те слова, которые я некогда читал о любви, но именно они разбегаются первыми, когда любовь из эликсира претворяется ядом. Я продаю последнее своё безумие, лишь бы, наподобие силков, набросить на любовь образ, тем самым опрокинув её динамику, развеяв её магию. Философствование – игра языка, бытие на грани его исчезновения; философия говорит иссякающим языком – неизвестно, хватит ли слов на следующий образ? Мне приходится врать, чтобы открыть воображаемое как путь реального. Я не историк, который будет до конца привержен правде – до тех самых пределов, когда правда начнёт лгать. Ложь извне являет собой неспособность солгать самому себе. Смотреть и видеть; не строить – обнаруживать сюжет, следовать ему, как бы приникая к шепчущему онтосу, его переливчатому говору. Придыхания в речи – предмет повышенного внимания. Я слышу слова, слышу речь, слышу язык, но меня пронзает тот звук, с которым глоток воздуха вливается в горло. Слишком много абстракций на одну человеческую душу. Из солнца льётся яркий сок, капает на землю, но та молчит, её глубины гудят нестерпимой мощью, невозможностью воспарить. Персидский царь рассказывает своим сыновьям сказку о западном ветре – чудовищном духе, что носится в ночную пору над аккадскими землями, сея путаницу и раздор, дух разрушения и возрождения, дитя Кришны и Брахмы, ублюдок, проклятое дитя – западный ветер не знает, где ему пристать, где возвести свой дом – так мчится он, взрываясь воем и плачем над степями аккадскими, дитя без сердца, дух без храма, вечный странник, застрявший в бесконечном выборе, обитатель ночи и страж рассвета – ведь особенно яростен западный ветер в самый тёмный час ночи, предваряющий первый луч солнца. С восходом сыновья отправятся в военный поход, и никто из них не вернётся живым, кроме одного, самого младшего, и так же, через много лет, став царём, будет рассказывать своим сыновьям сказку о западном ветре. Речь убийцы. Панорама по витринам ночного ресторана. Кадр из фильма. Кино – единственное, что может показать вещь в желании самой вещи показаться. Любовь не оглядывается, она поистине бессердечна. Обрамить бытием мир – значит позволить вещам рас-крыться в своей собственной истинности; суть поэзии – проза, в том случае, если поэзия замыкает себя смертью. Всё же у вещей есть контуры. Позволить вещи быть – поддаться её видению, отказаться от своих глаз. Стать объектом вещи. Этим вопросом задавались и задаются многие: умерло ли кино? Ответ всегда тот же; получается, кино – это собственное растянутое во времени умирание; оно живо лишь по той причине, что постоянно мертво – архитектура никогда не обманет время, но в какой-то момент само время превращается в великого ваятеля. Кино находится где угодно, но не в собственных пределах – там, как раз, царствует пустота, там только ритм и бесплотная фигура свидетеля. Схоже в чём-то со всеми этими байками о призраках, привидениях, потусторонних субстанциях; так же и кинематограф – это мёртвое тело, чья душа парит невесть где, заклятая и потому застрявшая посерёдке между живым и мёртвым. Кино – это западный ветер, выродок, дух без обители. Парадокс в том, что редукция не ставит точки в познании; это зависит не столько от навыков сознания, сколько от повторяемости. Редукция повторяема, и нагота мира – знак его лицедейства. Сознание каждый раз сталкивается с актуальностью собственного бытия. Нагая плоть – это идея. Я-место – не-место среди иных мест. Я вижу из пустоты – невозможного промежутка, приклинившегося промеж вещей. Я возвращаюсь к себе. Читая «Набережную неисцелимых», принимаешь вещественность литературы: подлинные образы не создаются, тем более не сочиняются, а выискиваются – что, конечно, не может не отразиться на здоровье писателя. Автор – это уже не роль, не позиция, не статус и, разумеется, не индивид; скорее, это формуляр. Он только распределяет элементы. Произведение исчерпывается заданными условиями, правда, что мешает предположить, что условия по природе схожи с элементами, которые действуют в данных условиях? С одной стороны, мы имеем дело со структурами, с другой – с конструкцией; и в случае с последней наши взаимодействия со структурами минимальны. Произведение, как и мир, вырастает изнутри, и снаружи тянется к внутренностям. Линии, контуры, поля – места встречи структур и конструкций. Сингулярное – в стороне. Оно постоянно остаётся неизвестным. Философ не писатель; последний имеет дело только с текстами, философ – нет. Он может быть писателем, текст для него функционален, но писатель философом быть не может. Философия пишется безумцами. Писать можно только тогда, когда испытываешь неготовность перед словом, перед сказом. Языковой структуре я противопоставляю собственную игру, и главным правилом игры является непонимание и незнание. Текстом я создаю молчание, создаю то, чего в принципе нельзя создать. Мысль – максимально сфокусированный голос. Я мыслю, значит, я рискую быть не собой, ставлю себя под удар. Метафора взрывает и собирает вещь – приход динамического целого. «Я вновь и вновь искал, держа в руках фонарь, при свете дня…» - неизвестный автор. Он умер. Присутствие мысли – это политика насилия; мне приходится действовать, если мысль есть. Буковски был наделён крепкой силой воли, раз продолжал писать, даже будучи вусмерть бухим. Каждый раз, напиваясь, он приходил к подобной мысли, которая с течением времени, ни на йоту не поменявшись, обрела характер аксиомы. Но аксиома – это уже нечто ставшее, и Буковски представляет собой уникальный случай переменчивости в аксиоматическом топосе; ведь реальность для такого забулдыги, как он, неизменна, подобно теореме, однако Генри Чинаски удавалось находить нечто иное в издавна узаконенном и пришедшем к покою существовании. Действительно, Буковски откапывал темпоральность там, где остальные натыкались исключительно на этические принципы. Он не мог не писать пьяным. Алкоголь расслабляет так, что речь теряет любую артикуляцию, но именно этот интервал был особенно ценен для Буковски, в нём он встречал высказывание как таковое – обращённость скорее не к читателю, но к колеблющейся субстанции – что-то между критиком, автором, читателем, пьяницей, пиздаболом, потаскухой, монахом, долбоёбом, книгочеем и т.д. Что-то меж тел. Буковски не принимал язык как место соположения и разграничения морфем и фонем; собственно, Буковски не принимал язык как границу и локус; надо вновь налакаться, чтобы понять, что слово на самом деле и есть язык: слова плавятся, липнут друг к другу, регрессируют до протовещества, в котором ещё нет особей и существ, это первичная материя, материнская утроба, горячая и мокрая пизда – из чего потом и вылезет мир, а вместе с ним – похмелье и яркий утренний свет, границы, сопряжённости, локальности, отношения, деньги, общество, Генри Чинаски и все его женщины; алкоголик видит, слышит, чувствует язык собственной персоной, он его прирождённый медиатор. Лицо – это смерть; жизнь меняет маски. Текст = орган = смерть. Выражение является мгновением выхода за языковые пределы. Вещь имеет смысл потому, что она проста. Она есть. Факт – это смысл того, что факт есть. Дальше идут толкования, плетения, сечения – заволакивание, смутность. В реальности нет метафор, как и нет символов. Жизнь бессмертна, и это не парадокс, ведь он заключается в смертоносном присутствии. Тело ни принимает в себя глаз; цвет мы ощущаем, а не видим. Видеть может лишь то, что мертво, что пережило внутри себя гибель. Человеческое присутствие смертоносно и само смертно; в безграничном человек вдруг ставит границу – разрыв, росчерк. Из зияющей пропасти лезет взгляд. Смерть – это срез, и видение – на гранях этого среза. Шизоид не может сказать о себе последнего слова – оно пропадает в развалах расколотого Эго. Речь фрагментируется, причём в самом процессе фрагментации угадывается подлинная судьба речи – это бытие, бытийствующее в ситуации постоянного деления, новообразования, распределения; в общем, речь – это и есть шизоидная операция, она бы не возникла, не будь патологического смещения; нарекать, речь – значит сдвигаться, сдвигать, рассекать, подразделять, фрагментировать, сегментировать и т.д. Беда шизоида в том, что каждый фрагмент может вмещать в себя такое же множество фрагментов. Каждый фрагмент фрактален. Прогрессия шизофрении. Отсутствие образа. Шизофрения отменяет интеграцию: субъект не в силах объективироваться. Перелом субъективации. По сути, это вечный субъект. Проигрывание подходящих ситуаций, когда всё-таки можно произнести финальную реплику, которая остаётся финальной постольку, поскольку она не может стать произнесённой. Шизоид – это речь завершающего слова, руины на подступах к заключительному возгласу. Делёз говорит о монадах, но, по-моему, умалчивает о множестве точек зрения в самой монаде – не идеи, а индивиды. Анализ постанавливает мир в качестве включённого понятия. Анализировать мы можем только то, что дано, и мир уже дан – мы замешаны в экспликации. Мы – случайные свидетели чужого мира. Система выходит из строя, когда участок системы, локализованный до неделимой далее единицы, начинает воспроизводить вариации иных систем. Вспоминать – значит мыслить, сопоставлять, играть. Всё иное – глубокое заблуждение и твёрдолобая уверенность, что само воспоминание – это факт, а мысль – не более чем инструмент и эффект мозговой активности. Мысль – та же плоть, что и тело; она также подвержена аффектам, она не имеет ни внешнего, ни внутреннего, понятия – лишь экскременты, отчуждённое от мысли, не немыслимое, а недомысленное, отрава, которая по истечению времени выходит из организма, хотя порой человек предпочитает мыслить экскрементами, чем самой мыслью, которая есть длящееся действие, протяжённая сила, чья протяжённость и есть сама мысль. Торжество тела над собственными отправлениями, которыми оно некогда было. И всё же участь каждого тела – вновь вылезти через собственный анус, став, таким образом, очередным отчуждённым элементом, самостью без самости, жалким следом жизни. Лечение шло методично и медленно. Основную часть времени он проводил дома, но иногда ему необходимо было ехать в диспансер для планового обследования и получения лекарств. Туберкулёз меняет окружение. Мир превращается в представление, максимально удаляясь от чахоточника. Внешние симптомы, вроде кровохаркания, это последний козырь. До победного туберкулёз ждёт, выжидает. Такая болезнь – собственная маска. Жест скрывает источник сингулярной природы тела; именно в жесте тело протестует против своей телесности, тело в жесте – утверждение духа, объявление о его сиюминутном присутствии. Жест трансгрессивен, в нём тело выворачивается и динамизируется в качестве энергии, черпаемой не из плоти. Жест – это кладезь собственного явления. Но какими же были эпохи до нас, если современная эпоха – эпоха эстетики? Мы живём среди объектов и сами являемся объектами; человек сравнён с вещью, оба отличаются только функционалом. Нет стихий, нет силовых различий. У нас наконец-то появился иммунитет к тайне – порнография. Язык стал предметным; тут произошла катастрофа, которая продолжается до сих пор. В современной науке главной проблемой становится проблема смысла; мир исчезает как неизвестное, мир дан как операция; мы не бросаем вызов внешнему, да и само внешнее не требует от нас нашей идентичности. Явление нивелировано кодом. Чистое, обеззараженное существование. Мы говорим не на языке плоти, а на языке сущностей. Философия пытается походить на изящную литературу в неподходящих для неё аспектах. Литература обращается к многообразию, не подавляя его; но философия изначально смертна, она избегает многообразия, и ей его всё равно навязывают, тем самым философия становится своей противоположностью – учётом. Такова номинальная философия, схоластическая до самых пят. Письмо – это шифр. Письмо – это рисунок. Стена. Как кожа – не безликая поверхность – тронутая временем – испещрённая трещинами, щербатая, пожухшая. Бетонная стена – молчание, говорливая немота. Я слышу – что? Это не голоса, не звуки, - что-то другое. Стена. Запертая, укрытая в себе. Голос – самозамкнутый атом, чья оболочка – воспоминание о целостности, к чему возвращается становление. Я не могу стать частью описываемого события – не могу стать участником. Язык писателя – непонимание. Образ – несводимость к собственным частям, к собственному целому; душа, внезапно отыскавшая себя в теле. В одиночестве перед словом писатель лишается воздуха и света, снимаются атрибуции – это мгновение перед смертью; здесь свершается труд неповторения. Река. Широкая, гладкая, блестящая – как лезвие ножа. Она будто ненастоящая. Солнце высоко в небе. Тут, на берегу, чувствую себя на границе фантазии. Знак соблазняет вещь своей вседозволенностью быть, и отягощённая субстанция рвётся к ничтожающему бытию символа. Сочиняя что-нибудьii, он никогда не думал о связях, конструкции, о целостности. Он писал отрывками: бросал один, приступал к другому. У него эти отрывки назывались глотками. Становилось понятно, что всё это разношёрстное сборище фрагментов воедино не скрепится. Верно, отвечал он, каждый отрывок – это единое. Текст – иное. Краткая заметка: сегодня тепло и сыро. Вчера целый день шёл дождь, с рассвета до самой ночи. И вослед этим замечаниям – автомобильная колея, едва повисшая в воздухе, в миллиметре от земли. Даже если я пишу о себе, я пишу как бы о другом человеке. Цельность приходит извне. Мы в себе незавершимы. Так, можно сказать, смерть нам внеположна. Она не единичный момент в жизни – она выступает множеством точек в потоке, опровергая каждый раз его самодовлеющее дление. Пространство имеет в себе ту абстрактную категорию, что подгоняет локусы друг к другу; сюжет или идея в кинематографе – пробегающая над явлениями линия, сверхявление. Сущность обрастает атрибутами, как коростой, и под ней погибает. Из атрибутов выглядывает покоцанное лицо. Нет тела – болтаются на скелете ненужные органы. Время – та часть пространства, что заставляет само пространство бредить и метаться из угла в угол. Зияние, лакуна, интервал. Где прячется незавершённость, где таится стыд. Смерть сама по себе единична и сама-в-себе собрана: жизнь не может собрать подобающее количество элементов, дабы вынести смерть из себя как результат суммирования. Смерть показывается со стороны Другого, она – заведомо Внешнее. Мышление кажется нам присущим, не требующим вопроса о своём бытии, и всё же мир никогда не нуждался в мышлении, в репрезентации. И никогда нуждаться не будет. Это не обязательно. Но сознание, в отличие от мысли, имманентно миру. Сознание само по себе имеет лишь один модус существования; оно не присуще осознаваемому. Он шёл по городу, горланил песни, выкидывал фразочки, будил народ; он сам был шествием в ночи, спорил с собой, сбивался, он думал: мы не можем говорить о мире с точки зрения статики; нет мира наблюдаемого – есть мир, пронизывающий наши тела, и мир, пронзаемый нашими телами. Желания, впечатления, чувства. Единственным объектом философии может быть только непостижимое. Все философы – мечтатели, а все мечтатели страшные глупцы, потому что реальному они предпочитают воображаемое. Мечтатели – дети метафоры. Это слишком высокие слова, однако, есть ли такие философы, которых не искушала бы поэзия? И одни возобновляют в себе этот искус, другие, в свою очередь, подавляют его. Если человек желает что-то сказать, ему необязательно обращаться к литературе и становится писателем. Фундамент литературыiii – не высказывание, где выстраивается схема «отправитель-получатель», а фраза, сплавляющая в своих недрах и писателя, и читателя. Что нам открывает фотография? Фотографировать = вычёркивать из времени. Фотоаппараты в наши дни немы и глухиiv. Снимок, мягкий звук, жест – моментальная дезинтеграция линии, точка, в которой времени нет – оно вычленяется из математической функции. Внутри они почти мертвы – а потом выносят уложенные в мешки трупы, грузят в фургоны, увозят, хоронят. Страшное место, захолустное, потому что у жизни здесь отсутствуют привилегии, более того, даже смерть побаивается показываться здесь. Процесс, стремящийся не к единению и единству, а к разрастанию. У жизни нет эволюции, у мысли нет линии становления. Нет примитивных или высших форм. Рано или поздно сталкиваешься с отсутствием форм, расплывчатостью контуров, варящейся туманностью сновидческого пространства, с бесконечной конвертацией и транзакцией территорий, с одной гигантской де-территорией, гравитация превзойдена – парение среди координат. Но задуматься о примате существования – всё равно что заклеймить себя позором, поплыть против течения. Бытует мнение, что ирония – это некий сорт самолюбования. Ирония, конечно, является одним из способов взглянуть на себя; суть этого способа – продолжающая и бесполезная попытка исключить самолюбование. Пока весь мир строится, я храню потенциал его деструкции. Моё тело, его действия и взаимодействия – выборы и аргументы, пока я сам остаюсь в неведении. Ставлю вещи на место. Рисую новую карту поверх старой. По ту сторону обозначений земли нет – есть шаги и привалы. Возвращение – это изменение. Двигаясь вперёд, мы обретает целостность корпуса, однако, как бы сильно мы ни развивали скорость, мы постоянно будем цельными. Движение замыкает нас. Дать по тормозам – отказаться от «себя». Прошлое/будущее – не более чем двумерные плоскости. Наша судьба – степень поверхностного натяжения; внутренности корпуса – дополнительный проект кожного покрова. Сквозь нашу плоть проходит то, что парит над кожей, шествует близ тела. Эпоха надмировых далей покрылась былью, ныне мы телесны до кончиков пальцев, тело – наша религия, наш ритуал, наше созидание, наша мораль. До какого-то момента мы вообще не задумываемся, что у нас есть организм, что помимо экзо имеется ещё и эндо. Кожа – это привычка, внутренний орган – откровение, инициация. Взаперти, дома, в собственной башне. Больной – понятие с импликацией изолированности, поскольку болезнь сама по себе является меткой, знаком, который, в свою очередь, есть разграничение, очерчивание, зацикливание. Означенное – отличное от другого. Карта болезни – путь происхождения и становления языка, мифология различия. Рылся в книгах, наткнулся на такую закладку: «имеем ли мы право на толкования вообще? интерпретация дана нам в качестве рефлекса, инстинкта; но никто не остановился». Далее – «с обратной стороны карточки ничего не написано». В этих записях кричит ненаписанная история. Весьма обыденная, скучная. Нечто вроде картины Хоппера – более занудные сюжеты не сыскать. Уснувшее событие: стаканчик виски, похабные разговорчики, утомлённость. Репортаж. Хорошее слово. Привлекает его конкретность и почтенное внимание к букве. Трепет и жажда перед событием. Бытие – слово о том, что нет ничего помимо бытия, и данное слово бытийно, ибо бытие торжествует себя и полнится собой. В репортаже важно то, что происходит, по ту сторону созерцания – стремительное вглядывание, вариант спринтерского бега. Смотря на эти записи, я понимаю, что у них одна судьба – моё воспоминание, моё прошлое; эти тексты, один за другим, возводят другой язык, освоить который будет под силам лишь мне. Создаёт тексты не в целях сообщения, а в намерении исследовать – автор есть собственный классификатор, археолог; авторv себя – этот тезис не лишён смысла. Человек всегда создаёт себя – и зачастую не узнаёт, будто наша идентичность конституирована забвением. Да, лица сходятся, всё верно, Жиль! Знание заменяет собой движение. Знание – это соблазн власти. В знании есть многое от соблазна. Это знание, которое невозможно знать; им можно обладать, его можно купить, им можно торговать, но только не знать. На глаза ему попался писатель, который по большому счёту перебивался короткими рассказами и, в редких случаях, несколькими повестями. Этот писатель не сочинил ни одного романа. Однажды его спросили, не пугает ли его романная форма, и писатель ответил, что лишь ткёт полотно, все его тексты – это Текст, сюжет сюжетов, форма форм, следовательно, роман не может быть завершён. Роман – это сама идея незаконченности, захваченное дыхание, несовершённый глагол, интрига без развязки. Это уловка, всеобъемлющее эфирное движение среди разрозненных элементов.
i Здесь русский язык прав. Единственное число «любви» едва ли не судьбоносно.
ii Обязательно ночью, в темноте, на ощупь; как он сам говорил, «в глухомани».
iii Конечно, в том случае, если в ней присутствует нечто, роднящее её с землёй.
iv Противоположность прошлым эпохам, когда момент снимка сопровождался звуком дерева (Барт)
v Autor. actor.
Международная зона
…вспомнился Кавафис по пути сюда. Бегство – это одна из форм отрицания; или принятия – кому как. Этот город мне сразу не понравился. Наверное, потому, что я ещё не до конца растолковал для себя случившуюся перемену; мне до сих пор кажется, что я струсил, даже когда ты убедил меня, что переезд в Танжер единственный верный способ покончить с назревшей проблемой. Но тебе, должно быть, надоело моё нытьё. По приезде на меня обрушился гвалт из французского, испанского, итальянского, немецкого, греческого, английского, турецкого, арабского языков, из фарси и иврита, словно сознание моё каким-то образом перенеслось в гущу свирепой бури, а проходя по улицам, складывалось ощущение, что Танжер является основанием Вавилонской башни, когда Господь только-только внёс свой фундаментальный разлад в речь. Улицы тесны и бесконечны, и ветвятся ещё, напоминая лабиринт, а из каждого подъезда и лавки наперебой доносятся предложения приобрести нить Ариадны. Я нашёл маленький отель и поселился там. Сперва я напился – прямо посреди дня, при солнцепёке. Впечатление, будто я устроил беспорядок в делах Хроноса, и на самом деле стоило дождаться ночи, когда с океана подует бризом, что слегка остужает раскалённые за день дома, переулки и мозги, однако я не мог ждать, я был взвинчен, да и сам Танжер скорее раздражал, чем привлекал, потому мне показалось правильным решение напиться допьяна и вырубиться, попав в пограничное состояние между сном и явью – видимо, из-за жары, вкупе с усталостью после долгой поездки, возникающие видения рассыпались, обнажая нечто поистине неузнаваемое, незримое, безымянное, откуда шли ко мне наречия со всех концов света, и в мозге моём явственно ощущались судорожные сокращения каждого нейрона и синапса; я потерял себя, путешествуя среди изъяснённых формул в бестолковом поиске моей собственной сути, а в итоге приходил к тому, что лицо моё – маска, с той же лёгкостью растворяющаяся в этой тошнотворной пелене, как соль в воде, и от меня не оставалось ни следа; этот город занял моё место, или, что вернее, я рассеялся в этом шуме, как бы подтверждая извечный постулат о прахе, из которого мы все состоим. Придя в себя, я даже испугался – вдруг я сейчас заговорю по-испански или по-португальски, вдруг, побывав магистралью неостановимой миграции народов и племён и вынырнув резко из её потока, я приобрету совершенно другие воспоминания, другую жизнь, другую историю? Нет, я остался прежним, и страх сменился разочарованием. До сих пор в ушах, как от удара, звенит тот самый стих Кавафиса, словно в назидание: каким бы сон ни был глубоким, даже если это будет смертный сон, ты вернёшься прежним. Танжер – это просто другая декорация, а может, и не декорация, но закулисье всего земного шара, где толпятся люди перед выходом на сцену, путаясь в текстах, ролях, образах… Я остался прежним, хотя город давно погрузился в ночь, что не повлекло никаких кардинальных изменений в жизненном цикле, и распахнутое окно, в которое вместо стёкол были вставлены решётки из тонких реек, гудело улицей, и голоса мешались красками всполошенного бытия, ведь Танжер – это лишь репетиция мироздания, каждый горожанин – это первый человек, а каждый язык – это праязык, однако меня продолжали тяготить воспоминания: причина, что заставила сменить место жительства, оставалась для меня неисчерпанной, и событие длилось во времени, настигая моё существо и толкая вперёд, делая меня форвардом переиначившего мою судьбу инцидента. Выйдя на улицу, я не мог отделаться от ощущения, что прошлое правит моими конечностями, подобно кукольнику; причина множилась собой, укрепляя своё могущество перед моей волей, и среди этого карнавала взбудораженной материи, каким являлся Танжер, я выпирал собственной собранностью, напоминая выженную метку на пустом листе бумаги; наверное, в Танжере я был единственным отягощённым памятью индивидом, и устами моими говорил только я, а не всё человеческое племя, что находится в зародыше будущего разделения на цивилизации. Купив сигарет, я стал спускаться по улицам, пока не набрёл на бордель. Я зашёл внутрь. В отличие от нас, в Танжере бордель – обычное себе заведение, ты можешь даже не заказывать себе шлюху, а просто выпить, но что-то подтолкнуло меня провести время в постели с женщиной, которой не важны ни твоё имя, ни твои чувства, и, заплатив, я поднялся на второй этаж. Мужчины заходили в комнаты к проституткам, как в уборную, спустя несколько минут покидая их с обыденным выражением, что лишь усиливало аналогию этих комнат с клозетом. Я вошёл в отведённый мне номер; комната была темна, пахло потом, табаком и какими-то благовониями; в окне же виднелись очертания порта, где курсировали огоньки в тёмной, постылой гуще. Голос подозвал меня к себе, как вдруг я понял, что в данный момент не нуждаюсь в женщине. Она лежала на кровати среди смердящих простыней и курила, и глухой ночной отсвет покрывал её худощавое лицо оранжевыми оттенками, что придавал этой даме схожесть с героиней какой-нибудь сказки. Оба друг для друга мы были «ты». Она курила изящно, пусть выглядела порядком измотанной. Я предложил выпить. Она рассказала, как забеременела от одного клиента и впоследствие бросила своего ребёнка – теперь он в каком-то алжирском приюте. Её истории меня не тронули – я будто втягивал загадочный покой этого места, чувствуя себя отшельником в центре пустыни. Ещё она поделилась своей мечтой стать пианисткой, хоть обмен сей был столь же бесполезным, как и мой визит к ней, однако её слова заставили меня взглянуть на собственные руки – как если бы они принадлежали не мне, пусть я прекрасно понимал, что играть больше не буду – стоит раз сесть за клавиатуру, как сами мышцы начинают противиться дальнейшим действиям, ибо воспоминание того, как эти руки лишили другого человека жизни, было неизбывным, а само забвение стало бы равнозначным гибели. Время встречи иссякло, и я покинул бордель, продолжая думать о том, сколько ещё людей войдёт в ту комнату, сколько ещё необходимо объятий, чтобы плоть перестала отличаться от сбитой, скомканной, пропитанной до последней нитки потом ткани. Беспризорный Танжер, хранитель ночи. В переулках играли песни – я не понимал, о чём они, оставалось только наслаждаться тембром и интонацией южных голосов, напоминающих волчий вой; нет ничего страшнее услышать в ночи, как воет зверь – не имея ничего общего ни с зовом, ни с кличем, зверь устремляет своё существо в беспредметное, необитаемое пространство, и вой становится средоточием неумолимого и неистребимого одиночества. Ты думаешь, я пишу тебе от отчаяния, но, ты видишь, почерк мой спокоен, а строки ровны; честно говоря, мне и самому непонятно, почему я пишу это письмо, вопреки твоему требованию оборвать связи, забыться, а ведь Танжер – превосходное место для забвения, тем более, судя по местным байкам, в этом городе живут вампиры, они тщательно скрываются и покидают свои убежища исключительно по ночам – в поисках пропитания они бродят по улицам, неотличимые от обычных гуляк, вроде меня, поскольку в Танжере каждый местный – мигрант, ассимилировавшийся здесь как раз благодаря невозможности сбросить клеймо чужака, что выражается во всём, в том числе, в языке; я понял, что язык в этом городе не что иное, как собрание акцентов, и гвалт, сбивший меня с токлу по прибытии, наповерку оказался средой обитания данного закулисья. Мне трудно не поверить в сказку про вампиров, схожих в целом с самим Танжером, не живым и не мёртвым, вытесненным к воде, как к пропасти; территория, одинаково неприглядная ни одной стихии. Танжер – отщепенец, дитя без роду, вне законов, вне династий, изгнанный из истории. Остаток ночи я провёл в порту. Корабли посещали и покидали гавань, как видения, будто, соскальзывая во тьму, они исчезали без следа, и какими бы убедительными доводами ни снабжал меня рассудок, сознание моё совершенно искренне тянулось к вере первобытных людей, что у земли есть край, за которым берёт исток ничто, и никакая вещь не входит в универсальную цепь превращений – исчезновение абсолютно. На этом, пожалуй, я закончу, поскольку лимит твоего великодушия и моих метаний исчерпан. Я догадывался, что финал обернётся бегством, но не представлял, каково оно в деталях. И теперь я живу в городе беглецов, где дома так плотно приставлены друг к другу, что невольно напрашивается сравнение с бандитским притоном или ночлежкой. Танжер – это тот самый край, если не исток, ничтожения. Здесь цивилизация оставила все свои мифы и предания как бесполезные пережитки доисторического прошлого. Впрочем, оставляя миф, человек приобретает прошлое, и Танжер – это жертва, которую предпочитают обойти молчанием, дабы лишний раз не омрачать и без этого безрадостные тенденции, преследующие память с целью заставить заглянуть в собственный источник. Танжер – это небывалое место – его не может быть, но, как заведено, ничто – это единственное, что достойно воспоминания. Это наш кошмар, наша плата за бытие. Мне больше нечего сказать. Бывай.
dreamcore
Запах бассейна описать невозможно; нельзя с помощью текста сколько-нибудь точно и полно передать то чувство, вернее, тот ворох разноголосых, точечных ощущений, что пробуждает этот запах. В определённых рецептивных областях даже самые абстрактные, невыразимые понятия находят приближенное к истинному воплощение, и одним из таких многосоставных символов является запах бассейна. Одиночество в толпе, как и отчуждение, страх, тревога, смятение преломляются сквозь толщу времени, чтобы возникнуть в памяти в первозданном виде, едва ты снова его услышишь. И конечно, вода – чужеродная, опасная территория. Смех, подколки. Боишься лезть в бассейн. Ты пока неопытен, и паника тихими шажками приближается… Прячешь неприятие глубоко внутри, ведь ты здесь по указке родителей. Ты подчиняешься, идя на поводу сторонних интересов. Иначе нельзя. Тебя не поймут, осмеют. Нельзя бояться. В широких и высоких окнах видишь пасмурное небо над стадионом, и скоро пойдёт снег, и с мокрой головой после плаванья пойдёшь на дополнительные занятия, потому что ребёнок это актив, циркулирующий на бирже родительских надежд и требований; заочный гений, потенциальный богач, в целом, состоявшийся человек, хозяин жизни – таков ребёнок, и не дай бог он заикнётся, что с чем-то несогласен. Лезь в воду. Постоянно дрожишь, но не от холода. Дрожь сама собой проскакивает по коже, как устойчивая реакция на колючее бытие, в котором тебе необходимо сыграть идеальную роль; подобная реакция обозначает границу между тобой и миром команд, брызг, глупых шуточек. Вода тёплая. Но всё равно чужая. Ты кое-как научился плавать, но не доверяешь стихии. Тело кажется тяжёлым. Оно будто не твоё. Норовит предать тебя, бросив на произвол. Стараешься выровнить дыхание, хотя вода попадает в горло, в нос, и ты заходишься в очередном приступе кашля, но тренер будто и не замечает, что тебе плохо; раздаётся свисток, и ты опять плывёшь, как топор, жалея о том, что вас, только привыкших к воде, выпускают из «лягушатника» в большой бассейн, который и является главным источником твоего страха. Синяя хлорированная бездна под ногами. Кто-то выбил опору, как на висельнице, и ты молотишь руками и ногами, лишь бы не дать воде забрать тебя, но чем больше двигаешься, тем меньше остаётся сил, и как тогда держаться на плаву?.. Кафельная облицовка, точно в кабинете врача. Вот откуда дрожь – дыхание загробного царства, где бродят угрюмые тени. Однако бассейн светел, здесь нигде не спрячешься, тебя везде заметят, и высокий потолок неизменно напоминает о школьном спортзале. Сама бездна – и та прекрасно просматривается. Повторяются слова о некоем соревновании, о духе соперничества, что остаётся для тебя загадкой – зачем людям тягаться между собой в том или ином деле. Говорят, главное не победа, главное – участие, но ведь все хотят стать победителями; каждый желает стать лучшим. Ты взрослеешь, когда видишь, что истину можно оспорить, что нет безупречных тезисов, что жизнь, по итогу, не ровняется на ценности, которые создаются за тем, чтобы построить устойчивую, далёкую от противоречий картину мира, что отличить её от реального бытия практически невозможно (да и без толку). Но человек не может существовать вне конкуренции. Ему необходимо что-то доказывать себе, утверждаться, и неважно, сколько сломается жизней. Ни тени сомнения: жизнь это борьба, она любит сильных и наглых, а тихонь решительно вытесняет на обочину. Печальнее всего момент озарения, когда человек понимает – победа в борьбе ни к чему не приведёт, разве что к мимолётному проблеску счастья, который померкнет куда быстрее, чем успеешь им насладиться; но в том же откровении заложено и другое послание: философия войны столь глубоко пустила корни, что не оставила никаких шансов разорвать замкнутый круг, сплетённый из разочарования, что тебе уготована участь вечно проигравшего, и из патологического стремления к надуманной победе. Человек начинает барахтаться в толчее своих желаний, не понимая, чего же на самом деле хочет. Сказать же «я не хочу ничего» равносильно измене, потому что ничего не хотеть неправильно. И когда тонешь, перед глазами проносится пустота, как ночная автострада. Вода заполняет лёгкие, а крики вязнут в глотке; возвращается состояние, когда ты покоился в утробе, не думая о великой миссии дыхания. Смерть – яркое, невыносимое событие, о котором так много говорят и так мало знают. Остро сверкают огненные точки в палитре хлорированной пропасти. Геометрия сновидений разрывается многомерностью: кем ты был и кем ты не был; наблюдаешь альтернативы существования и альтернативы негативного выбора, которого тебе никто не давал, да и что такое выбор, если не пародия на божественное вмешательство, но единственное, что сейчас вмешивается в твою жизнь, это смерть, и всё зависит от одного шага. Жизнь – это репетиция вечно отменённого спектакля. Романтизация химических реакций делает заманчивым околосмертный опыт: будто в пределе восприятие обостряется настолько, что временная линия максимально уплотняется, становясь обратимой, и сознание раскрепощается настолько, что вмещает в себя всё трансцендентное ему бытие. Глупости. Рождение и гибель – переживания вне никудышной эстетизации. И тот момент как бы вырезается трафаретом из полотна твоей биографии, и ты можешь забить эту пустоту каким угодно хламом, однако сама форма пустоты останется, и именно она является смертью.