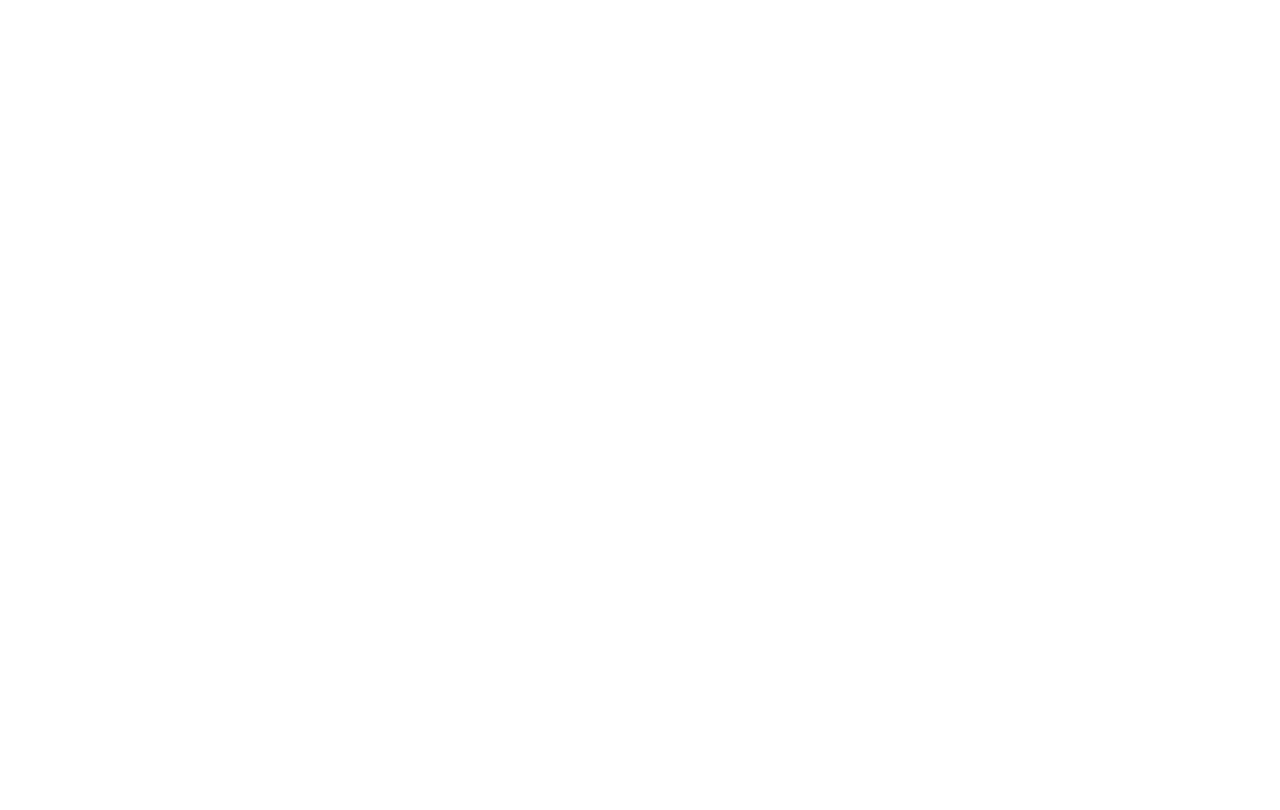Александр Фролов
Переводчик, поэт и музыкант. Печатался в вестнике современного искусства «Цирк-Олимп», в арт-дайджесте «Солонеба», в сетевом журнале «TextOnly», «Лиterraтура», «Полутона», «Флаги», в журнале поэзии «Воздух» и во «Всеализме». В 2018 вышла первая книга стихов – «Гранулы». В 2019 – книга коллективных переводов Кларка Кулиджа. В 2020 – вторая книга – «Внутри точки» с текстами и фотографиями – в издательстве «Русский Гулливер». В 2023 – книга совместных с Александром Улановым переводов Рейчел Блау ДюПлесси «Черновики I-38, Гул». Так же занимается переводами современной американской поэзии – Лесли Скалапино, Барбары Гест, Роберта Крили, Роберта Данкена, Боба Перельмана, Шейлы Мёрфи, Джены Осман и Энн Лаутербах.
«Складки»
Текст «Складки» – срез становления языка, его промежуточное движение от ничто к смыслу, горячая фаза, когда его слои переплетаются, как змеи в борьбе за первенство, выживание и размножение. «Складки» – попытка запечатлеть разрастание такой плоти.
Переводчик, поэт и музыкант. Печатался в вестнике современного искусства «Цирк-Олимп», в арт-дайджесте «Солонеба», в сетевом журнале «TextOnly», «Лиterraтура», «Полутона», «Флаги», в журнале поэзии «Воздух» и во «Всеализме». В 2018 вышла первая книга стихов – «Гранулы». В 2019 – книга коллективных переводов Кларка Кулиджа. В 2020 – вторая книга – «Внутри точки» с текстами и фотографиями – в издательстве «Русский Гулливер». В 2023 – книга совместных с Александром Улановым переводов Рейчел Блау ДюПлесси «Черновики I-38, Гул». Так же занимается переводами современной американской поэзии – Лесли Скалапино, Барбары Гест, Роберта Крили, Роберта Данкена, Боба Перельмана, Шейлы Мёрфи, Джены Осман и Энн Лаутербах.
«Складки»
Текст «Складки» – срез становления языка, его промежуточное движение от ничто к смыслу, горячая фаза, когда его слои переплетаются, как змеи в борьбе за первенство, выживание и размножение. «Складки» – попытка запечатлеть разрастание такой плоти.
Переводчик, поэт и музыкант. Печатался в вестнике современного искусства «Цирк-Олимп», в арт-дайджесте «Солонеба», в сетевом журнале «TextOnly», «Лиterraтура», «Полутона», «Флаги», в журнале поэзии «Воздух» и во «Всеализме». В 2018 вышла первая книга стихов – «Гранулы». В 2019 – книга коллективных переводов Кларка Кулиджа. В 2020 – вторая книга – «Внутри точки» с текстами и фотографиями – в издательстве «Русский Гулливер». В 2023 – книга совместных с Александром Улановым переводов Рейчел Блау ДюПлесси «Черновики I-38, Гул». Так же занимается переводами современной американской поэзии – Лесли Скалапино, Барбары Гест, Роберта Крили, Роберта Данкена, Боба Перельмана, Шейлы Мёрфи, Джены Осман и Энн Лаутербах.
«Складки»
Текст «Складки» – срез становления языка, его промежуточное движение от ничто к смыслу, горячая фаза, когда его слои переплетаются, как змеи в борьбе за первенство, выживание и размножение. «Складки» – попытка запечатлеть разрастание такой плоти.
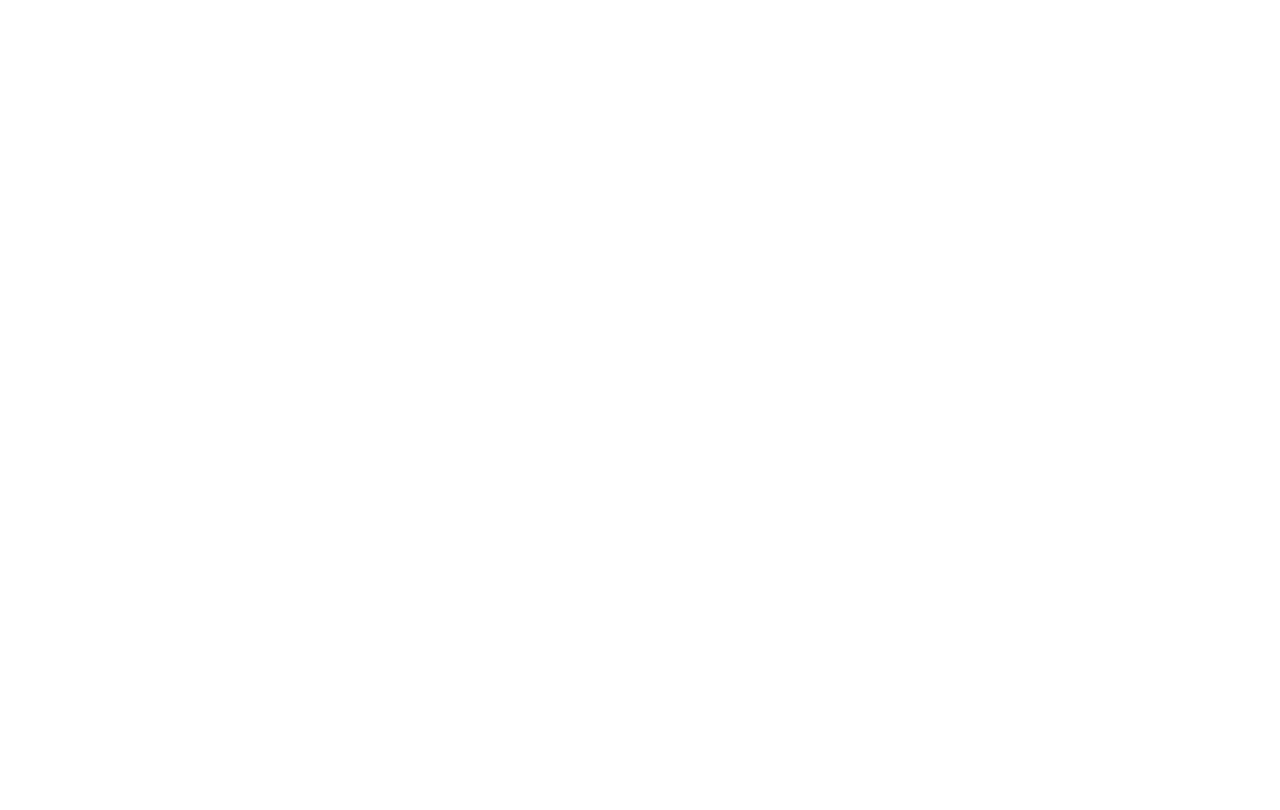
СКЛАДКИ
1.
Обрывается. Белое засвеченное, монада, вскрыты консервы горизонтов, ровные, как рельсы, как двери четвёрки, узкие, что ветер кашляет, когда ударяется лбом в створ. Первая свеча падала, вторая – ещё выше, освещая ожог на провалах пальцев. Отсюда – время – свирель. Мешок дождя тяжелеет от стекла, эбонитовый. Отверстия плача – язвы песка (падение в представление).
Он падал уже около часа. Дым ли? Снег? Фон менялся. В отстраненности быть может звезды. Холоднее чисел. Сложность, снующая змея, кольцевая – первая, вторая, третья – камень вечера тяжел, грудь дробями освобождая, густел.
Горечью густоты язык кофе цвел, глаз темнел. Ближе к полному фону, мимо телевизора, внутренности сферы. Окно тише книги, закладки бельевых верёвок – он взял газету:
- болит ещё?
- да, но уже меньше.
- меньше чего?
- может быть слона?
- шахматного?
- нет, который в детской книжке (там ещё был салют)
А если шахматного бы?:
резонансы позвонков, вскрывая ребусы фигур в вихревых долинах лезвий в неустанном слоении битума оси, как боли мантия, катакомбы стратегий вплетения смол в сахар, чтобы кокон фарфора бесстенным рассечением горла осквернял свиток клети боли, падая, ломая трухлявую тяжесть хруста, канифолью крошась, пустив жала дождя эха затхлыми галереями замалчивания швов, оседающих осколками полой фигуры на дно клокочущего угля севера крови.
- но это всего лишь частность!
- может быть и так, но он сказал, что можно только одно.
Единичное. Цепочка смуглых шей моря. Дым прямой, шестой день подряд играет амальгамой своих обручей. Извержение рук льда. Катакомбы ветра пустынны. Стенания неприступных лепке стульев в сухости бумажного змея. Медленна соль сна.
- почему хочется бежать отсюда? – огромные ветви спрашивали лица – указательный палец моря на горизонте – двигались жилы стен.
Отснятые кадры в рост космоса вложены. Натянуты нервы окна – дребезжат: мост по которому уже лет 30 не проезжал поезд возможен только как мираж. Отстраненные звенья событий. Он снял кандидатуру, когда узнали о том лете. Изменение витка времени, когда он поднимал вилку, когда он поднимал вилку, когда кто-то поменял стулья местами, (на секунду вибрация прекратилась, мускулы расслаблены: тяжелее на грамм) когда вилка поднимала его.
- а куда бежать?
Цех 10. Серебристый металл стекал в готовые формы. Формы времени? Глаз. Её раскалённый взгляд.
Бежать по пыльной дороге вперёд до тех пор, пока забывание не пронзит полотно памяти своими ножами. Колодец, который внутри. Пирамиды воздуха. Они звенят. Разрозненные фрагменты сюжета. В сжатом кулаке уместилась вся книга.
Вызывая огонь из пустых листьев, молоко складывалось веером. Означает стадия.
Он входил в цех ещё живой. Ожог – 90% поверхности. Балки прогибаясь, узнавали накатывающую волну. Запоздалое море. Её рука медленно поднималась вверх. Шторы медленно покачивались отсутствием ветра. Назначение температуры относительно рельефа глаза.
Бежали на первый этаж, по пожарной лестнице, кто-то выпрыгивал прямо из окна. Мутная вода затекала в горло. Очки, дайте ему очки. Как в детстве качели переговаривались пустотой, подбрасывая разрывы воздуха к тёмным стёклам высоток.
То лицо из камня, болит. Куда бежать, когда столько крюков, словно черный ворон клюющий труп.
Цех головы продуваем насквозь. Шторы, ожог, цепочка, бешенный рёв ветра в телевизоре, миниатюра двора в окне. Не мог поднять страницы, вложение большого натяжения рафинирует ноль на полоски, и тяжесть отходит. Железная голова падает и разбивается.
- не он ли случайно причастен к поджогу? Углы скрипят в шторах.
- да брось ты, он же мёртв.
- мне сказали, но я не верю ни одному слову.
Углы расходятся, и в сектор вворачивается свая времени, не спираль, кривой гвоздь, а оптический колос, задевающий молоко веера, ступает мерно к дому, хоть там неверие, но огонь не гаснет, рукав оторван, молитва (забыта тут же).
- кто помнит молитву?
- там, вон, слева по коридору, на стене написано краской.
2.
Пока она зрела, свая окончательно окрепла. Трещина пошла сразу. Минуты тишины. Горели пятна пропусков. Солнечный вопль остывал на конце иглы. Нити утончались, но крепли. В тусклой перспективе воды шрам молнии догорал. Пока он бежал по тёмному коридору. По стенам сбегали ящерицы трещин. Сумерки будней. Глобус уже не тот. Краска выгорела. Страны света не там, где ты думал в детстве. Под кроватью пыльный том недочитанной книги. Считал вагоны, чтобы уснуть. Так было раньше. Так было сейчас. Сейчас ландшафты кусают стёкла окон с самого утра, чтобы вызвать обрушение кровли. Бетонные блоки грусти. Лицо из камня не читаемо в воде. Ветер разбросал множество кадров. Хочется писать, чтобы не как в школьной линейке ребёнком. Писать, как застывшие камни в цементе. Пытаешься дотянуться до светящейся точки, но она не схватываема. Ты в мешке? Ловкий луч ускользает в гранях миража. Ресницы, смоченные мёдом. Лоскуты света сквозь. Но точка там же, где и была. Механизмы статики. Кавычки, не отпускающие темноту.
Некая убеждённость в ровном импульсе живой поверхности сохраняет возможность побега. Условная свобода от территории замкнутой на объект. Он жест, потенциальный хлопок, застывший между ладоней в неизбежном контуре уже прорисованного мгновения соприкосновения, но ещё бесконечного в своей апатии проявляться, дабы отдалить вероломство узнавания под обжигающим зноем света, что обрисовал границы выпадения в осадок следа, мощь которого разрушительна для пишущей руки, в наивности полагающей ещё до того, как острие пера коснётся бумаги, ухватить этот пульсирующий ответ ясности, раскрывающейся в нескольких сантиметрах от руки, но постоянно ускользающей в предвкушении быть пойманной для самого пишущего; следа, опережающего созревания хлопка, множась отражениями, эхом повторений в расслоенном зрачке, в котором память сметает все сталактиты предыдущего опыта, вырастая из своей катастрофы, волной пепла агонизирующего объекта.
Обрывается, белое засвечено, как речь, что исходит из-за спины, где-то в районе крошева перспективы созидающего огня, что лезвия лучей растерял при роспуске тяжести слайда. Глубже нащупывается кристалл. Резать стекло тягучего дыма. В нём отравлены сообщения, посланные другим, но не прошедшим предел скорлупы импульса, повисшего каплей над пропастью преображения водой, тихо сложенной в конверт кулака. Несколько свечей шатающихся от ветра.
Инженерные эскизы языка раздаются, не умещаясь в дверь. Четвёрка, не сумевшая стать числом, зацепившись краем за точку взгляда, опору пространства, где мрак речи нарезает колею торможения. Где холода на палец больше, чем раньше. Но откуда уверенность в соположении двух свечей, если в броске воды уже замечено стекло. Когтями рвущее плоть направления дыма, в котором не уследим выдох, конструктор будущих искривлений рта, в предвкушении которых лампочка перестает освещать то место, где я собираюсь написать следующую букву дрожащей рукой.
Но, несмотря на отверстие, они задыхаются – руки, схватившие горло, сдавливающие настолько сильно, что глаза стекленеют и забываются – разрыв, где «я» оседает металлическим порошком на дно тумана, захватившем поле до падающего листа, отсекающего восходящее жерло алфавита, его мякоть, отдающую гнилью, сыростью могильной земли, чернотой совокупления пустоты начала, в то как голова перевешивает луч света, разбиваясь на тысячу металлических шариков, проваливаясь в лакуны буксующего предначалья, как волосы на очках, мешающие прочитать надпись на головке спички, несущую мощь различия свечей, до которых шаг, и можно было бы осветить тёмное пятно листа, но спичка гаснет, даже не вспыхнув, и где-то внутри осколок режет что-то мягкое.
Галлюцинирующий песок, покрывающийся язвами, во время того, как время нарекает именем, вкручивая извивающийся всевидящий глаз своего чрева, открытого плачу, как представлению, в которое падаешь, теряя способность опознавать и быть опознаваемым, логос до большого взрыва, без имени, грамматической клети, так что можно из снега выдернуть линейки и падение продолжится, исчезая в развоплощённой длительности, поле, что неустанно меняет свои координаты силы, освобождая импульс за импульсом, остывая до спектра гиганта, раздавившего скелет чисел своим эфемерным ростом.
Соцветия горечи заостряли потенциальную артикуляцию смол языка за вычетом той силы, обезглавливающей предсердия ещё не наметившихся пятен названия, гуляющей в свободном размахе от родового шума объекта до первых растяжек кавычек, когда неоновые коконы дождя рвут пуповину ночи на разнокалиберные полости, освобождая место, точнее нарезая для будущих извержений спящего космоса внутри калейдоскопа времени, что загоняет свои огненные спирали в целостности смеха, воспринятого по ошибке шипением раны, иероглифом тумана ослабляющего натяжения воли к завершению стона, когда в расширенном поле глаза всё таки прорастает первое утро кода образа, и кофе приятно обжигает чьё-то нёбо (которого возможно и не было, и лёгкий ожог, как условие, порог у очертаний читающего газету, книгу, пять книг, окна, которое – звук уже как пятый день со дня того, как он натянул бельевые верёвки, и по привычке, проходя мимо неработающего телевизора попытался его включить)
Рана – ошибка, лист, осыпающийся сквозь пальцы пылью бабочки, сорванной с гербария, сделанного отцом, когда ландшафт ещё был не таким прямым: болит. Были ещё люди? Нет. Только тени столбов, карандаш и украденная шахматная фигура, названия которой не вспомнить. Тот, кто выбрал это положение книги, понимал, что растение, стоящее в углу будет закрывать ту часть её, где была развёрнута вся схема подземных лабиринтов, адресующих к центру, в постоянном смещении которого угадывалась бы точка, отсылающей к возможной опоре произрастания сюжета к неумолимому голоду по началу строки, избегающей вновь и вновь зеркальной листа стали, напротив которого в рваной динамике, искривляясь в гримасах жестокости, спеет сон ненайденного пишущего станка, т. к. не были замечены даже тени, ветви теней, чтобы опереться хоть на малейшую эфемерность присутствия в нелинейности липкого пепла ясности горящего пространства, в ослеплении подсмотренного одним глазом салюта, когда отец рассказывал, как мосты тихо оседают на воду, и ровные тихие волны уносят жар дня в своих неустановленных гранях (может быть и так, но он сказал, что можно только одно).
Конвульсии зеркальных математик заводят острую сухость усложнённой повторением кожи мелодии, готовой раздаться в любое мгновение по щелчку замка, оголённого холодом, чтобы рука, переходящая в метод опровержения, огнём прорисовывалась её окончанием стать таковой, поскольку резервуары ветра, как выяснилось, были пусты (таковыми и остаются), способные пронести в себе всю гамму траекторий шелеста, запущенного воздушного змея (отец уже тогда смотрел из окна), сделанного накануне вечером, когда дым, вертикаль дыма, не предвещавшая ветра (тогда ещё заметил нелепость стульев у разобранной стены), раскалывающая орех неба своими металлическими спицами, застывших в ростке то тут, то там, тем не менее, не поддаваясь на уговоры их измерять, вдруг рушатся, калеча спокойствие опыта наблюдателя, медленнее которого только сон.
Происходящая тут лепка коллапса ослабленными пружинами краски, дающая ногам лёгкость пустыря, освобождённых от обуви и боли, мерцающей внутри кристалла, отобранного морем, хоть только ещё и на горизонте, но уже предвосхитившем своё безумие украдкой изымать элементы зрения (добавление ветвей) приковывая к месту, из глубин которого рос наблюдатель, не сумевший совладать с сокрушающим его желанием бежать из-за предчувствия надвигающейся катастрофы, словно в это время кто-то в стенах жил, парализуя вопрос бесконечными рыданиями, от чего сыпалась штукатурка, и скрипели полы по ночам, вопрос, при падении в пропасть цепляющий провода, раздирая плоть динамки гипса неустановленного рельефа боли (когда он говорил о ней, то закрывал глаза, сжимал зубы, и вена на виске начинала сильно пульсировать), обнажая хребты хаоса, где черная точка поглощала возможность говорить, думать, оставляя лишь терции преломления следа ведущего к ним, внезапно обрывающимся при ослеплении прожектором, установленного вверху модели, и только вечерний мрак оставался безучастным к этому синтетическому пеплу желанию, к этим расщепляющим механизмам голода.
Множества, неописуемы множества разобранных рам, ранее разбивающих поток на многомерные длительности, сейчас выброшены им же на обочину, где так же можно найти пустые осиные гнёзда, старые театральные костюмы, кассетные плееры и резиновые перчатки, так что стол, удерживающий их, пульсировал, и мотки его углов разматывались в своём безначалье, достигая туманного мерцания на другом конце голоса, а, точнее, стекла голоса (на нём говорили сломался первый алмаз; тёмная душа; воронка), склеенного из крошек ржавчины поезда, давно забытого всеми (даже дети не приближались к нему, а кто-то говорил, что его никогда и не было), но каким-то образом принесённого с пылью закатного шрама лета, (когда была снята кандидатура предсказателя за нехваткой улиц и словарей с разборчивым почерком) может птицей, а, скорее всего, в спичечном коробке неизвестного с девятой улицы лет после тридцати лет звериного инстинкта молчать моста, видного из окна, как точки, в которую должно быть упиралось бы событие, хотя факты говорят, что там была только вода на полу и спящая собака, что мост уже как 30 лет разрушен бушевавшими здесь некогда наводнениями; возможно события было три, на что указывает наличие стульев, стоящих в обратном порядке не у стены в тени (он об этом рассказал позже); местонахождение других не определить, т.к. кадры лежащие на столе – засвечены.
Построение новых мостов не предусмотрено. Клубки стальных нитей, связующих модули движения, переплавляются в формы времени, не схватываемые слитки боли, опережающие на шаг её взгляд, раскаляющегося от постоянных вспышек света, бьющего из внутренних горизонтов, закруглённых в долгое «О», больше даже колодцев – так стиснуты его скулы – что матовые плотные стёкла, не выпускающие сияние за пределы глаза, как по команде растворяются туманным облаком, и оно вырывается вовне, преломляясь в трапециях воздуха, заставляя их кричать комкающимися словосочетаниями звона, не находя своей кульминации в разбросанных ошмётках сюжета, вдоль которых разворачивается другая дорога, не позволяющая нарастание движения, выбрав стазис, как средство от разрушительного света ясности действия, бездействие, наполняющего пустоту листа, его способность к бесконечным самоотражающимся эхо, как дар повиновения блуждающим порогам в попытке уловить малейшую вибрацию начала, чтобы молоко вспыхнуло всей своей темнотой, доставая из недр готовые макеты книги, но уже уменьшенные в беспрерывном саморазрушении памяти, как стадии принятия смерти в уже зарождающемся дне, благодаря чему лестница ужаса обретёт первые очертания возможного.
Ещё жизнь разворачивала в нём свои траектории, ещё место было не узнано и не прожито до конца, до капли, что остаётся висеть до последнего, даже когда ветер разуверился в себе, как в дающем слово расступающимся окаменелостям реальности, оголяющим на долю секунды внутренности сгоревшего листка бумаги, от которого осталась десятая часть, стиснутого обожжёнными пальцами информатора с такой силой, что кристаллы моря приходили в движение, раздаваясь до неузнаваемости в высшей точке невозврата, перестраивая орнаменты поверхности момента, в котором он раз за разом еле живой доползал до дверей цеха, с обожжёнными до кости конечностями, где снова и снова соединительная ткань возможности отойти в сторону рвётся перед последним вдохом, не позволяя раскрутить волчок, послужившего причиной появления трещины в кадре, так как он слеп, безжизненно мал, в полном отчаянии перевернуться на другой бок, в обратную сторону, чтобы стены отдали клетки холода беснующимся матрицам запаздывающего моря, несущим в себе сломы события, будто это вовсе другая рука, изящная как подсвечник, пустившая под откос поезд тридцать лет назад, рука Фемиды, взмах которой улавливают шторы, и, медленно покачиваясь, фиксирующие перед собой осколки стонущего ветра, открывшемуся другому потоку, намного более древнему, познавшему первобытный ужас изменения от первого сокрушения божьего глаза.
Ядро росло, один кадр упал на пол в воду, собака подняла голову на то, что не попало в фокус: видно, что баланс нарушился (он стоял впереди, спиной), потому что павильоны холода без согласия потеряли цвет. Жёлтое колкое ядро росло. Спина, как линза, чтобы осмотреть окрестности горения. Изменчивые показатели последовательностей зерна. Экран не узнавал плоскости в местах ушиба звуковым импульсом глаза, ухватившего лишь фрагменты сдирания кожи прозрачности диагоналями ревущих плоскостей, не отражающих ничего, но являющихся подвижными конструкция для монтажа оптического фокуса, подражающему камню в самой сердцевине зерна, насечки силы, руно, увиденное аргонавтами во сне, коллективном помешательстве от темноты, распрямившейся в раскалённый прут негатива, словно железная ель развесила свои упрямые жилы, колючие рельсы, онемевшие покинувшей их кровью, окаменев до нижнего лица, вопреки безостановочному терзанию отзывчивой плоти мертвеца.
Сквозные шорохи молока в окоченевшей форме головы, веером разбегающиеся по стенам, нанизывая обручи молитвы, чтобы девятигранные холсты звука вошли в резонанс с обугленными в евклидовой герметичности штор, скрывающих ожог окна от отягощенных натяжением страниц, выделяющих кобальт и цинк в рассечение зрачка для обнаружения надписи на одной из граней недостающей улицы в текучей головоломке длительности, составляющих расстояния между вспышками забвения железного гостя, поставившего голову на стол, учитывая сломы воздуха, опрокинутого в толщи клокочущей раны языка, момента зарождения систем смыслов, пока ещё только в бисере тональностей, прорываясь в диез полюса, где размыкаются границы ядра, и ясновидение осторожно кувшинкой звенит на поверхности ледяного молока, добавляя к общему фону катастрофы зерно головы, нашедшей успокоение в кипящих нолях геометрий поджога, как если бы спокойные белые лоскуты опоясывали всё пространство сна, удлиняя дом в эпицентре роста колоса (отец дотронулся рукой к окаменелости, показывая четыре углубления вдоль всего верхнего изгиба), меняющего соотношения множеств, узлов, векторов дыхания вдоль ломки коридоров трансгрессии созвездий слепков в бушующие не стыкующимся гигантским разломам тектоники языка.
Лицо, вкалывающее себя в гербарий памяти, спотыкается о пыль, разбрызгивая чернила времени, ничего не рисуя, а лишь пачкая себя о бумагу.
- Истинны ли углы твои?
Но дом молчал.
Бежала за ним собака? Кровь со временем уже перестала успевать за ним – отставала на целый шаг, потом на два, и наконец, остановилась. Он шёл не глядя. Белые густые борозды снега. Дом молчал.
Начинание, как исчезновение. Когда он ушёл, кровь уже не отражалась в ветре. Шёл дождь, нотные страницы были пусты, мокли. Камень устал, слушает. Город не был произносим. Он был. Рождение только при восклицании. Оставленное место ещё долго тёплое.
- первое число было придумано богами.
- на ногте своём он пронёс его сквозь пламя?
- говорят столько спиц было в его колеснице.
Первое, что пришло в голову – развеять имя по ветру, затем – глаза и руки. Только так можно увидеть число. Красные холмы марса растут в каждом сечении мысли. Розы обвивают храм скорпионов.
Карманные луны остыли до медяков. Черепа солнц. Место, которое он выбрал, не произнести.
Собака лилась числом. Он слышал уравнения волн. Струны раскалены до бела. Колодцы истощены светом, что не отражается. В котором птицы Ё – полые миры. Гранулы события уже залиты кипятком. Считать по ссадинами на пыли число разбившихся масок. Пригубить от огня. Во всём – только лестницы. О рукава цепляется стрелка, и стекло ещё дальше. Лицо – отвязанный дым.
Море забрасывает себя в скорпиона.
Картон потеет от прикосновения стальной иглы.
Пресмыкающийся гололёд.
Ключи от сердцевины крови.
Дрожь.
Легкость – прозрачность рук, листающих губительные для них стёкла. Две среды, имеющие тождественные выпуклости, к острию силы, сломом рельефа нарастания концентрических самоузнаваний манящей, но прячущие их за сетчаткой воскового крошева, чувствительного к искривлениям воплощённой тени в развёртывающемся окостенении отпечатка пальца отца, указывающего на меня, и, при этом, сквозь, словно я раствор, соединяющего насильно сорванного с оси стекла, за которым не умаляется растерзанный фон позади него (воспоминание об отце) молчанием (седины залом), а дробится на тысячелетние дымЫ ослабленных корневищ вероятных карт кровотоков на шкуре будущего (узнавание по изгибам моста – менялось ли небо от такой высоты), стекла, что было костром для его лица, пока я держал за тонкую нить воздушного змея, улавливая яды покалеченного им ветра, пока дрожь разрасталась внутри жидким литием, он слегка улыбнулся, и ветер, растянутый до красных кровоподтеков в лакунах своих голенищ, уже чугунных под отсутствием фразы, что должна была заполнить его пустую ладонь горечью полынного выдоха, вспыхнувшего на месте полумёртвых зародышей слов.
Облегчение протекало неравномерно. Соборная вода в глазницах асфальта отомкнула панцирь льда, до черноты вовлекаясь в ослепление. Фигурки хлебных воинов невозможно было бы опознать в заиндевевших крошках, если бы большая чёрная птица не склонила голову набок, демонстрируя свой мёртвый глаз никогда не спящим ледяным зеркалам ветра, глине, в которой остановился указательный палец отца, непреодолимой прочтением, чьи корни теряются ещё до того, как сон разрастётся до размеров ореха с последующим вытеснением воздуха из сдавленной молниями сферы возможного отпечатка уже не пальца, но хотя бы обратной перспективы его указывающего жеста – точки склеивания обрезков страницы из старого блокнота, на которой должна была просматриваться встреча с отцом, что так и не состоялась из-за невыносимо тонкого стекла, но все же присутствующего между его ладонями и моей попыткой иероглифами геометрии обрезков выстроить лестницу к точке за спиной, где собирается вода в непонятом мной событии отпечатка, прячущегося в толщах чёрного утра, как бесконечная тоска несовпадения.
Тяжелое ядро, подвешенное на стальных нитях, покоится в точке, избежавшей пересечения хотя бы двух векторов, какой-либо плоскости, являя собой точку вопроса ко
Происходящая тут лепка коллапса ослабленными пружинами краски, дающая ногам лёгкость пустыря, освобождённых от обуви и боли, мерцающей внутри кристалла, отобранного морем, хоть только ещё и на горизонте, но уже предвосхитившем своё безумие украдкой изымать элементы зрения (добавление ветвей) приковывая к месту, из глубин которого рос наблюдатель, не сумевший совладать с сокрушающим его желанием бежать из-за предчувствия надвигающейся катастрофы, словно в это время кто-то в стенах жил, парализуя вопрос бесконечными рыданиями, от чего сыпалась штукатурка, и скрипели полы по ночам, вопрос, при падении в пропасть цепляющий провода, раздирая плоть динамки гипса неустановленного рельефа боли (когда он говорил о ней, то закрывал глаза, сжимал зубы, и вена на виске начинала сильно пульсировать), обнажая хребты хаоса, где черная точка поглощала возможность говорить, думать, оставляя лишь терции преломления следа ведущего к ним, внезапно обрывающимся при ослеплении прожектором, установленного вверху модели, и только вечерний мрак оставался безучастным к этому синтетическому пеплу желанию, к этим расщепляющим механизмам голода.
Множества, неописуемы множества разобранных рам, ранее разбивающих поток на многомерные длительности, сейчас выброшены им же на обочину, где так же можно найти пустые осиные гнёзда, старые театральные костюмы, кассетные плееры и резиновые перчатки, так что стол, удерживающий их, пульсировал, и мотки его углов разматывались в своём безначалье, достигая туманного мерцания на другом конце голоса, а, точнее, стекла голоса (на нём говорили сломался первый алмаз; тёмная душа; воронка), склеенного из крошек ржавчины поезда, давно забытого всеми (даже дети не приближались к нему, а кто-то говорил, что его никогда и не было), но каким-то образом принесённого с пылью закатного шрама лета, (когда была снята кандидатура предсказателя за нехваткой улиц и словарей с разборчивым почерком) может птицей, а, скорее всего, в спичечном коробке неизвестного с девятой улицы лет после тридцати лет звериного инстинкта молчать моста, видного из окна, как точки, в которую должно быть упиралось бы событие, хотя факты говорят, что там была только вода на полу и спящая собака, что мост уже как 30 лет разрушен бушевавшими здесь некогда наводнениями; возможно события было три, на что указывает наличие стульев, стоящих в обратном порядке не у стены в тени (он об этом рассказал позже); местонахождение других не определить, т.к. кадры лежащие на столе – засвечены.
Построение новых мостов не предусмотрено. Клубки стальных нитей, связующих модули движения, переплавляются в формы времени, не схватываемые слитки боли, опережающие на шаг её взгляд, раскаляющегося от постоянных вспышек света, бьющего из внутренних горизонтов, закруглённых в долгое «О», больше даже колодцев – так стиснуты его скулы – что матовые плотные стёкла, не выпускающие сияние за пределы глаза, как по команде растворяются туманным облаком, и оно вырывается вовне, преломляясь в трапециях воздуха, заставляя их кричать комкающимися словосочетаниями звона, не находя своей кульминации в разбросанных ошмётках сюжета, вдоль которых разворачивается другая дорога, не позволяющая нарастание движения, выбрав стазис, как средство от разрушительного света ясности действия, бездействие, наполняющего пустоту листа, его способность к бесконечным самоотражающимся эхо, как дар повиновения блуждающим порогам в попытке уловить малейшую вибрацию начала, чтобы молоко вспыхнуло всей своей темнотой, доставая из недр готовые макеты книги, но уже уменьшенные в беспрерывном саморазрушении памяти, как стадии принятия смерти в уже зарождающемся дне, благодаря чему лестница ужаса обретёт первые очертания возможного.
Ещё жизнь разворачивала в нём свои траектории, ещё место было не узнано и не прожито до конца, до капли, что остаётся висеть до последнего, даже когда ветер разуверился в себе, как в дающем слово расступающимся окаменелостям реальности, оголяющим на долю секунды внутренности сгоревшего листка бумаги, от которого осталась десятая часть, стиснутого обожжёнными пальцами информатора с такой силой, что кристаллы моря приходили в движение, раздаваясь до неузнаваемости в высшей точке невозврата, перестраивая орнаменты поверхности момента, в котором он раз за разом еле живой доползал до дверей цеха, с обожжёнными до кости конечностями, где снова и снова соединительная ткань возможности отойти в сторону рвётся перед последним вдохом, не позволяя раскрутить волчок, послужившего причиной появления трещины в кадре, так как он слеп, безжизненно мал, в полном отчаянии перевернуться на другой бок, в обратную сторону, чтобы стены отдали клетки холода беснующимся матрицам запаздывающего моря, несущим в себе сломы события, будто это вовсе другая рука, изящная как подсвечник, пустившая под откос поезд тридцать лет назад, рука Фемиды, взмах которой улавливают шторы, и, медленно покачиваясь, фиксирующие перед собой осколки стонущего ветра, открывшемуся другому потоку, намного более древнему, познавшему первобытный ужас изменения от первого сокрушения божьего глаза.
Ядро росло, один кадр упал на пол в воду, собака подняла голову на то, что не попало в фокус: видно, что баланс нарушился (он стоял впереди, спиной), потому что павильоны холода без согласия потеряли цвет. Жёлтое колкое ядро росло. Спина, как линза, чтобы осмотреть окрестности горения. Изменчивые показатели последовательностей зерна. Экран не узнавал плоскости в местах ушиба звуковым импульсом глаза, ухватившего лишь фрагменты сдирания кожи прозрачности диагоналями ревущих плоскостей, не отражающих ничего, но являющихся подвижными конструкция для монтажа оптического фокуса, подражающему камню в самой сердцевине зерна, насечки силы, руно, увиденное аргонавтами во сне, коллективном помешательстве от темноты, распрямившейся в раскалённый прут негатива, словно железная ель развесила свои упрямые жилы, колючие рельсы, онемевшие покинувшей их кровью, окаменев до нижнего лица, вопреки безостановочному терзанию отзывчивой плоти мертвеца.
Сквозные шорохи молока в окоченевшей форме головы, веером разбегающиеся по стенам, нанизывая обручи молитвы, чтобы девятигранные холсты звука вошли в резонанс с обугленными в евклидовой герметичности штор, скрывающих ожог окна от отягощенных натяжением страниц, выделяющих кобальт и цинк в рассечение зрачка для обнаружения надписи на одной из граней недостающей улицы в текучей головоломке длительности, составляющих расстояния между вспышками забвения железного гостя, поставившего голову на стол, учитывая сломы воздуха, опрокинутого в толщи клокочущей раны языка, момента зарождения систем смыслов, пока ещё только в бисере тональностей, прорываясь в диез полюса, где размыкаются границы ядра, и ясновидение осторожно кувшинкой звенит на поверхности ледяного молока, добавляя к общему фону катастрофы зерно головы, нашедшей успокоение в кипящих нолях геометрий поджога, как если бы спокойные белые лоскуты опоясывали всё пространство сна, удлиняя дом в эпицентре роста колоса (отец дотронулся рукой к окаменелости, показывая четыре углубления вдоль всего верхнего изгиба), меняющего соотношения множеств, узлов, векторов дыхания вдоль ломки коридоров трансгрессии созвездий слепков в бушующие не стыкующимся гигантским разломам тектоники языка.
3.
Лицо, вкалывающее себя в гербарий памяти, спотыкается о пыль, разбрызгивая чернила времени, ничего не рисуя, а лишь пачкая себя о бумагу.
- Истинны ли углы твои?
Но дом молчал.
Бежала за ним собака? Кровь со временем уже перестала успевать за ним – отставала на целый шаг, потом на два, и наконец, остановилась. Он шёл не глядя. Белые густые борозды снега. Дом молчал.
Начинание, как исчезновение. Когда он ушёл, кровь уже не отражалась в ветре. Шёл дождь, нотные страницы были пусты, мокли. Камень устал, слушает. Город не был произносим. Он был. Рождение только при восклицании. Оставленное место ещё долго тёплое.
- первое число было придумано богами.
- на ногте своём он пронёс его сквозь пламя?
- говорят столько спиц было в его колеснице.
Первое, что пришло в голову – развеять имя по ветру, затем – глаза и руки. Только так можно увидеть число. Красные холмы марса растут в каждом сечении мысли. Розы обвивают храм скорпионов.
Карманные луны остыли до медяков. Черепа солнц. Место, которое он выбрал, не произнести.
Собака лилась числом. Он слышал уравнения волн. Струны раскалены до бела. Колодцы истощены светом, что не отражается. В котором птицы Ё – полые миры. Гранулы события уже залиты кипятком. Считать по ссадинами на пыли число разбившихся масок. Пригубить от огня. Во всём – только лестницы. О рукава цепляется стрелка, и стекло ещё дальше. Лицо – отвязанный дым.
Море забрасывает себя в скорпиона.
Картон потеет от прикосновения стальной иглы.
Пресмыкающийся гололёд.
Ключи от сердцевины крови.
Дрожь.
4.
Легкость – прозрачность рук, листающих губительные для них стёкла. Две среды, имеющие тождественные выпуклости, к острию силы, сломом рельефа нарастания концентрических самоузнаваний манящей, но прячущие их за сетчаткой воскового крошева, чувствительного к искривлениям воплощённой тени в развёртывающемся окостенении отпечатка пальца отца, указывающего на меня, и, при этом, сквозь, словно я раствор, соединяющего насильно сорванного с оси стекла, за которым не умаляется растерзанный фон позади него (воспоминание об отце) молчанием (седины залом), а дробится на тысячелетние дымЫ ослабленных корневищ вероятных карт кровотоков на шкуре будущего (узнавание по изгибам моста – менялось ли небо от такой высоты), стекла, что было костром для его лица, пока я держал за тонкую нить воздушного змея, улавливая яды покалеченного им ветра, пока дрожь разрасталась внутри жидким литием, он слегка улыбнулся, и ветер, растянутый до красных кровоподтеков в лакунах своих голенищ, уже чугунных под отсутствием фразы, что должна была заполнить его пустую ладонь горечью полынного выдоха, вспыхнувшего на месте полумёртвых зародышей слов.
Облегчение протекало неравномерно. Соборная вода в глазницах асфальта отомкнула панцирь льда, до черноты вовлекаясь в ослепление. Фигурки хлебных воинов невозможно было бы опознать в заиндевевших крошках, если бы большая чёрная птица не склонила голову набок, демонстрируя свой мёртвый глаз никогда не спящим ледяным зеркалам ветра, глине, в которой остановился указательный палец отца, непреодолимой прочтением, чьи корни теряются ещё до того, как сон разрастётся до размеров ореха с последующим вытеснением воздуха из сдавленной молниями сферы возможного отпечатка уже не пальца, но хотя бы обратной перспективы его указывающего жеста – точки склеивания обрезков страницы из старого блокнота, на которой должна была просматриваться встреча с отцом, что так и не состоялась из-за невыносимо тонкого стекла, но все же присутствующего между его ладонями и моей попыткой иероглифами геометрии обрезков выстроить лестницу к точке за спиной, где собирается вода в непонятом мной событии отпечатка, прячущегося в толщах чёрного утра, как бесконечная тоска несовпадения.
Тяжелое ядро, подвешенное на стальных нитях, покоится в точке, избежавшей пересечения хотя бы двух векторов, какой-либо плоскости, являя собой точку вопроса ко
всему движению, закодированному в парализованной мышце, вращающего жернова хрустальной сферы, измельчающих прозрачный пар, как единственное подтверждение присутствия рта, искажённого конвульсиями в попытке вспомнить невидимые борозды ожогов в темноте внутренних зеркал век от вспыхнувшего лица, разогнанного до скорости проносящегося поезда, в одном из окон вагонов которого на мгновение застывает лицо, всколыхнувшее равновесие до такой степени, что ядро смещается на миллиметр, натягивая нити до предела, из-за чего одна не выдерживает и лопается, освобождая участок кожи, выстилающей безжизненные пространства памяти (двигались относительно ядра), о чью полую мощь раскалывалась повторяющаяся неспособность вонзить жало осколка стекла окна вагона поезда, отразившего лишь раз, как выяснилось позже, не лицо, а нечто пугающее, в своих глубинах хранящее ответ на малейшее движение воздуха, доныне огибающего точку отсутствия прямых путей их пересечений, как осторожная змея, хранящая остаток яда для последнего укуса, уже истощённая предыдущими всплесками ярости и попытками поразить мерцающие, зарождающиеся миры звёздной пыли (отрицательное равновесие), заканчивающимися ударами головой о заплёванное змеиной слюной стекло; воздуха, разорванного раскалённым несущимся составом тяжести, составом предложения, вырывающегося изо рта кровавыми сгустками освежёванных мёртвых эмбрионов слов, кожа которых оседает чернильным паром времени, ничего не рисуя, а лишь пачкая себя о бумагу.
Сыпучесть шага. Он на ночь сыпал по углам соль, чтобы наутро было видно места, где раны у теней ветра. Молчание, ослабляющее грани ради примирения с ним. Они входили все сразу, не поворачивая головы в сторону спящих, прозрачные, как слепые зеркала, оставляя после себя струйки песка и лишь последний на секунду замер, поднёс к лицу раскрытую ладонь, от чего клубок фитиля погасшей свечи начинает нагреваться, понемногу раскручиваясь дымными кругами по комнате? улице? (на или в углу было не сказано ничего из того, что записано? или это следы грязных пальцев, мокрых веток по стеклу? глубокие царапины от острых когтей уличного кота?), ладонь, как перевернул складку воздуха, потом поднёс к глазам в тот самый момент, когда фитиль становился оранжевым, может, чтобы закрыть глаза от ещё пока бредущего коридорами возможности, несущего в себе всё воспаление от попадания в сердцевину источника тусклого света от едва сумевшей себя собрать в версию вчерашней свечи, но тут же почти гаснувшей, словно невозможность дочитать фразу, из-за того, что ветер не устаёт деформировать страницу, возможно, в желании досказать последовательностями изгибов историю, написанную на листе, историю вскрытых тайников его теней, обескровленных постоянным смещением вбок, уставших бездействием отсутствий света настолько, что соль приходит в движение, разъедая утверждение «углы истинны», оставляя на только что выпавшем снеге густые борозды, в которых кто-то просыпался и потом бежал незаметно для спящих (мне снился отец с нашей первой собакой в лесу, потом шёл дождь, и кто-то спрашивал время – по голосу: мама) осматривать дом, пытался закричать, но кровь уже стояла на шаг позади, вобрав в себя его возможность видеть, и то, что называлось домом – тонкой плёнкой, соединившей два слога в нечто узнаваемое, наполовину состоящее из первой ступени хроматической гаммы первого вопля младенца, что пуповиной связан со второй частью – с матерью, оберегающей его сердцевину, содержимое глиняного кувшина без дна в тысячу раз прочнее самых толстых стальных канатов, но неуловимое, как третье, то, что молчит между двумя.
То(т), что покоится в начинающихся отсветах повторений серы, осадком выпадающей на дно скомканного рассвета, теряет присутствие формы (память забвения) – что-то превосходящее самое себя изливается (старается) за прошивку набегающего миража (антипамятник) в трещины теней от векторов распространения тёмного вещества будущего. Наметившиеся изгибы прямых ещё пока длительностей. Искра, которая дольше камня, множится в алюминиевых зрачках ветра, заставляет равномерно вибрировать лобные скаты антипамятника (в то самое время призрачная кровь…). Неустойчивые звуки рассыпаются на мелкую пыль – можно ощутить её вкус – жёлтый. Солнечные ожоги соскальзывают с мокрого листа нотной тетради. Если вверх – растерзанный синий, часто красный: иногда параллельные нити ржавчин, отягчённые внутренними нераскрытыми конвертами шумов, бельевые поручни птиц, но чаще ветвящиеся вне друг друга тонкие контуры размотанных лиц на достаточной высоте над поверхностями, чтобы ржавчина не попала в глаза. Линза – колесо дождя, жидкая статуя слуха, которым камень отказывается молчать, уставший, впускает в просыпающиеся стыки внутренних призм отсветы сложной серы, несущей в себе произнесённое имя не произносимого города до того, как был заложен первый камень его песочных стен. Песочное пирожное, купленное отцом в то дождливое утро воскресенья на перроне за несколько минут до отбытия электрички. Я думал, что оно больше солнца. Его рука была всегда тёплая. Но в тот день обжигающа, как первый вопль новорожденного, вырывающийся из толщи многочасового материнского крика, забывшейся на пороге между сном и явью, исколотой невидимыми, изуродованной жалами ещё несуществующего имени, но уже охваченного желанием быть.
– Что о числах?
– Первое число было придумано богами. Доказательства? Эти желеобразные ячейки с уплотнениями в центре. На ладони – меньше капли. С изнанки их нет. Оборванные кАбели антенн, разной длины, зависит от приложенного усилия, мастерства исполнения.
– Но ведь это не позволит выяснить причины – почему оставшаяся точка постоянно не даётся в написании.
– Она сложнее первых – экспонат взрыва. Углубления – застывшие надломы параграфов огня – проигрываются остриём спицы из его колесницы о неизбежном падении стёкол от ветхости рам, не сдержавших новой герметичности исполнения, что вдвое искуснее предыдущего и нетерпимее к неточным значениям, требующего беспрерывно восклицающего истока… незаурядного склеивания разбитого воздуха, на ногте пронесённого им сквозь пламя.
– Витальность формы?
– Боюсь, нет, всего лишь спица.
Лязгающий своими колючими цепями ветер привлекает руку, сжатую в кулаке. Концентрированные сгустки последовательностей перемешаны: грани игральных костей до броска – жеста, разжимающего кулак навстречу лезвию, срезающему кожуру тайны, освободившись от пут, которая рухнет каменными занавесями на пол, оголив чудовищность обозначившихся путей, от чего написанное песком имя легко сметается порывами ветра, из глубин которых доносится едва слышимый крик (звук сыплющегося песка): не разобрать. Затем глаза и руки начали увядать, сбрасывая поблекшие бутоны. Змеёй изображение (кабель порван). Мешки с песком, отнимающие высоту. Шар огня проходит сквозь стену, не задевая её. Так говорит число. Это его красные сети оплетают каждую мысль – надвигающийся рельеф марса – куб, выхватывающий из бега жидких съемных станций хаоса, нарезающий плоскостями своих граней резьбу модальностей затвердения в форму розы, обвивающую храм скорпионов – дрейфующие оазисы: льдины из песка – осколки времени, вываренные в молочном клейстере ожидания, рваные структуры жатв.
Как обретается орбита события, однажды уже соткана, пружины ослаблены, перетянута была струями лиц: первенец – закутанный в тень сфинкс поднимает к небу глаза. Выпрямляются созвездия. Луны свалены в кучу, голодными глазами без опоры, набиты карманы ручными, холодными, рыхлыми. Зыбучие глазницы на медных черепах солнц, облекающие телесность взгляда в отсутствие света: бесплотной ткани, лишающей возможности перефокусировать на бесконечность оптику места, сквозь которое он продолжает идти, обескровленный, легче конуса света, разбитого над его головой в орнамент течений, смывающих все надписи со стен, неизвестным числом, зашифрованным в параболах стихии; место – линза, рассеивающая сообщения между следами артикулированных гипсовых струн, звенящих монотонное пепельное эхо на длине белого так, что собака лилась числом. Кипящие смолы дней собираются в сгусток календаря, отмеченного глянцем угля с изнанки, являющие собой колодцы, опустошающие птиц своим отрицательным накалом света: карты безымянных, распадающихся пространств, не успевающих завершиться отражением. Уже заряжены ружья, чешутся капсюли патронов, так как событие уже настоялось до чёрного. Малейший шорох и дрожь переходит в движение – порох открывает свои подземелья, выпуская фарфоровые чашечки с огнём – хрупкие как слёзы: пригубить, едва коснувшись, чтобы не спугнуть, не разбрызгать остатки горящих лестниц, задевая пыль тяжёлыми лицами, делая глубокие вмятины в ней, оставляя ссадины на пол страницы, теряя цифры с окружностей, отвязывается, рушась в дым, указывающего на стекло, которое ещё дольше.
Море забрасывает себя в скорпиона, в смерть, рукой, в которой несколько горошин, для почвы, познавшей рассечение трещинами от абсолютного зноя, чтобы насытить блуждающие тени дождя, для его роста в отказывающих подчиняться конечностях, вяло повисших на исключительных в строгости перилах полдня, перед которым пресмыкается полюс холода, как картон потеет от прикосновения стальной иглы, роняя ключи от сердцевины крови на пол. Дрожит.
2017 г.
Сыпучесть шага. Он на ночь сыпал по углам соль, чтобы наутро было видно места, где раны у теней ветра. Молчание, ослабляющее грани ради примирения с ним. Они входили все сразу, не поворачивая головы в сторону спящих, прозрачные, как слепые зеркала, оставляя после себя струйки песка и лишь последний на секунду замер, поднёс к лицу раскрытую ладонь, от чего клубок фитиля погасшей свечи начинает нагреваться, понемногу раскручиваясь дымными кругами по комнате? улице? (на или в углу было не сказано ничего из того, что записано? или это следы грязных пальцев, мокрых веток по стеклу? глубокие царапины от острых когтей уличного кота?), ладонь, как перевернул складку воздуха, потом поднёс к глазам в тот самый момент, когда фитиль становился оранжевым, может, чтобы закрыть глаза от ещё пока бредущего коридорами возможности, несущего в себе всё воспаление от попадания в сердцевину источника тусклого света от едва сумевшей себя собрать в версию вчерашней свечи, но тут же почти гаснувшей, словно невозможность дочитать фразу, из-за того, что ветер не устаёт деформировать страницу, возможно, в желании досказать последовательностями изгибов историю, написанную на листе, историю вскрытых тайников его теней, обескровленных постоянным смещением вбок, уставших бездействием отсутствий света настолько, что соль приходит в движение, разъедая утверждение «углы истинны», оставляя на только что выпавшем снеге густые борозды, в которых кто-то просыпался и потом бежал незаметно для спящих (мне снился отец с нашей первой собакой в лесу, потом шёл дождь, и кто-то спрашивал время – по голосу: мама) осматривать дом, пытался закричать, но кровь уже стояла на шаг позади, вобрав в себя его возможность видеть, и то, что называлось домом – тонкой плёнкой, соединившей два слога в нечто узнаваемое, наполовину состоящее из первой ступени хроматической гаммы первого вопля младенца, что пуповиной связан со второй частью – с матерью, оберегающей его сердцевину, содержимое глиняного кувшина без дна в тысячу раз прочнее самых толстых стальных канатов, но неуловимое, как третье, то, что молчит между двумя.
То(т), что покоится в начинающихся отсветах повторений серы, осадком выпадающей на дно скомканного рассвета, теряет присутствие формы (память забвения) – что-то превосходящее самое себя изливается (старается) за прошивку набегающего миража (антипамятник) в трещины теней от векторов распространения тёмного вещества будущего. Наметившиеся изгибы прямых ещё пока длительностей. Искра, которая дольше камня, множится в алюминиевых зрачках ветра, заставляет равномерно вибрировать лобные скаты антипамятника (в то самое время призрачная кровь…). Неустойчивые звуки рассыпаются на мелкую пыль – можно ощутить её вкус – жёлтый. Солнечные ожоги соскальзывают с мокрого листа нотной тетради. Если вверх – растерзанный синий, часто красный: иногда параллельные нити ржавчин, отягчённые внутренними нераскрытыми конвертами шумов, бельевые поручни птиц, но чаще ветвящиеся вне друг друга тонкие контуры размотанных лиц на достаточной высоте над поверхностями, чтобы ржавчина не попала в глаза. Линза – колесо дождя, жидкая статуя слуха, которым камень отказывается молчать, уставший, впускает в просыпающиеся стыки внутренних призм отсветы сложной серы, несущей в себе произнесённое имя не произносимого города до того, как был заложен первый камень его песочных стен. Песочное пирожное, купленное отцом в то дождливое утро воскресенья на перроне за несколько минут до отбытия электрички. Я думал, что оно больше солнца. Его рука была всегда тёплая. Но в тот день обжигающа, как первый вопль новорожденного, вырывающийся из толщи многочасового материнского крика, забывшейся на пороге между сном и явью, исколотой невидимыми, изуродованной жалами ещё несуществующего имени, но уже охваченного желанием быть.
– Что о числах?
– Первое число было придумано богами. Доказательства? Эти желеобразные ячейки с уплотнениями в центре. На ладони – меньше капли. С изнанки их нет. Оборванные кАбели антенн, разной длины, зависит от приложенного усилия, мастерства исполнения.
– Но ведь это не позволит выяснить причины – почему оставшаяся точка постоянно не даётся в написании.
– Она сложнее первых – экспонат взрыва. Углубления – застывшие надломы параграфов огня – проигрываются остриём спицы из его колесницы о неизбежном падении стёкол от ветхости рам, не сдержавших новой герметичности исполнения, что вдвое искуснее предыдущего и нетерпимее к неточным значениям, требующего беспрерывно восклицающего истока… незаурядного склеивания разбитого воздуха, на ногте пронесённого им сквозь пламя.
– Витальность формы?
– Боюсь, нет, всего лишь спица.
Лязгающий своими колючими цепями ветер привлекает руку, сжатую в кулаке. Концентрированные сгустки последовательностей перемешаны: грани игральных костей до броска – жеста, разжимающего кулак навстречу лезвию, срезающему кожуру тайны, освободившись от пут, которая рухнет каменными занавесями на пол, оголив чудовищность обозначившихся путей, от чего написанное песком имя легко сметается порывами ветра, из глубин которых доносится едва слышимый крик (звук сыплющегося песка): не разобрать. Затем глаза и руки начали увядать, сбрасывая поблекшие бутоны. Змеёй изображение (кабель порван). Мешки с песком, отнимающие высоту. Шар огня проходит сквозь стену, не задевая её. Так говорит число. Это его красные сети оплетают каждую мысль – надвигающийся рельеф марса – куб, выхватывающий из бега жидких съемных станций хаоса, нарезающий плоскостями своих граней резьбу модальностей затвердения в форму розы, обвивающую храм скорпионов – дрейфующие оазисы: льдины из песка – осколки времени, вываренные в молочном клейстере ожидания, рваные структуры жатв.
Как обретается орбита события, однажды уже соткана, пружины ослаблены, перетянута была струями лиц: первенец – закутанный в тень сфинкс поднимает к небу глаза. Выпрямляются созвездия. Луны свалены в кучу, голодными глазами без опоры, набиты карманы ручными, холодными, рыхлыми. Зыбучие глазницы на медных черепах солнц, облекающие телесность взгляда в отсутствие света: бесплотной ткани, лишающей возможности перефокусировать на бесконечность оптику места, сквозь которое он продолжает идти, обескровленный, легче конуса света, разбитого над его головой в орнамент течений, смывающих все надписи со стен, неизвестным числом, зашифрованным в параболах стихии; место – линза, рассеивающая сообщения между следами артикулированных гипсовых струн, звенящих монотонное пепельное эхо на длине белого так, что собака лилась числом. Кипящие смолы дней собираются в сгусток календаря, отмеченного глянцем угля с изнанки, являющие собой колодцы, опустошающие птиц своим отрицательным накалом света: карты безымянных, распадающихся пространств, не успевающих завершиться отражением. Уже заряжены ружья, чешутся капсюли патронов, так как событие уже настоялось до чёрного. Малейший шорох и дрожь переходит в движение – порох открывает свои подземелья, выпуская фарфоровые чашечки с огнём – хрупкие как слёзы: пригубить, едва коснувшись, чтобы не спугнуть, не разбрызгать остатки горящих лестниц, задевая пыль тяжёлыми лицами, делая глубокие вмятины в ней, оставляя ссадины на пол страницы, теряя цифры с окружностей, отвязывается, рушась в дым, указывающего на стекло, которое ещё дольше.
Море забрасывает себя в скорпиона, в смерть, рукой, в которой несколько горошин, для почвы, познавшей рассечение трещинами от абсолютного зноя, чтобы насытить блуждающие тени дождя, для его роста в отказывающих подчиняться конечностях, вяло повисших на исключительных в строгости перилах полдня, перед которым пресмыкается полюс холода, как картон потеет от прикосновения стальной иглы, роняя ключи от сердцевины крови на пол. Дрожит.
2017 г.